ЧЕЛОВЕК-ВЕЩЬ И ХРИСТИАНСКОЕ СОЗНАНИЕ
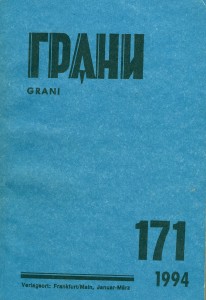
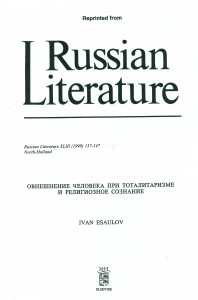
Тоталитарное общество, формирующее соответствующий тип человека, до самого последнего времени продолжает рассматриваться как реализация определенного утопического (чаще всего марксистского) проекта, либо же – напротив – как закономерный итог развития христианской (именно – православной) цивилизации.
Настоящая работа представляет собой опыт прочтения одного из трудов М.М. Бахтина («Формы времени и хронотопа в романе») с точки зрения построения тоталитарного образа человека.
Работая с текстами М.М. Бахтина, не следует забывать, что ученый не столько литературовед, сколько именно философ, на литературном материале заявивший глубоко новаторские философские идеи. Впрочем, как и другой его великий современник – А.Ф. Лосев, волею судеб ставший по преимуществу историком античной эстетики. Наиболее близкие М.М. Бахтину в последние годы его жизни люди, опубликовавшие уже свои воспоминания, с редким единодушием обращают внимание на вынужденное, а не свободное обращение ученого к собственно литературоведческой деятельности.
C.Г. Бочаров указывает на «несвободу прямо философствовать о главном» (1) , заставившую М.М. Бахтина перейти в иную гуманитарную сферу. В.В. Кожинов убежден, [259] что Бахтин «только превратился якобы в литературоведа… И сам Михаил Михайлович считал литературоведение чем-то не очень серьезным» (2) . По мнению Г.Д. Гачева, «его книга о Достоевском – религиозный трактат, где главная проблема – Я и Бог… Это, конечно, богочеловеческий трактат в литературоведческой форме» (3). По точной формулировке того же С.Г. Бочарова «язык описания он насытил теологическими понятиями и в событии эстетическом вскрыл его религиозную глубину». При этом «некоторые основные модели христианской философии глубоко запрятаны в анализе ситуаций, которыми он занимался»(4). Несомненно, и в интересующей нас бахтинской работе имеются неочевидные и столь любимые мыслителем «далекие контексты», далеко не всегда эксплицируемые. Ведь одна из наиболее характерных особенностей его научных построений – это «сближение с далеким без указания посредствующих звеньев» (5).
В труде «Формы времени и хронотопа в романе», написанном в 1937-1938 гг., М.М. Бахтин, предвосхищая искания нового и новейшего литературоведения, пытался осмыслить «процесс освоения в литературе реального исторического времени и пространства и реального исторического человека, раскрывающегося в них» (6).
Внимательно изучив раздел «Античная биография и автобиография», можно сделать вывод, что принципы изображения человека (и само видение человека), отмечаемые автором как особенности данной разновидности античного романа, выходят далеко за пределы античной эпохи и обретают свое второе рождение (или, если угодно, второе воз-рождение) не где-нибудь и когда-нибудь, а именно в Советском Союзе и именно в годы написания бахтинского труда. Создается впечатление, что, исследуя античную поэтику, философ изучал одновременно «процесс освоения в литературе […] реального исторического человека» не древнегреческой цивилизации, а ленинско-сталинского тоталитаризма.
Наиболее существенное в античных биографиях, по Бахтину, то, что они «не были произведениями литературно-книжного характера, [260] отрешенными от конкретного общественно-политического события их громкого опубликования. Напротив, они всецело определялись этим событием, они были словесными гражданско-политическими актами публичного прославления или публичного самоотчета реальных людей» (282). Как видим, тексты, о которых писал Бахтин, не просто обращены, так сказать, «лицом к жизни», к реальной действительности, но и «всецело определялись» соответствующими общественно-политическими событиями. Авторы, таким образом, обязаны не только учитывать происходящие события, а еще и «всецело» (иными словами тотально) зависеть от них и отчитываться с учетом этой зависимости. Сами публичные «прославления» или «самоотчеты», тем самым, приурочиваются к тому или иному событию.
Поэтому, по мысли Бахтина, «внутренний хронотоп» таких текстов (их собственный художественный мир с его художественным же пространством и временем) «здесь важен не только и не столько» (282). Неизмеримо важнее, чтó находится за пределами текстов: «тот внешний реальный хронотоп, в котором совершается […] изображение своей или чужой жизни как граждански-политический акт публичного прославления или самоотчета» (282).
Какова природа этого «реального хронотопа», который так властно и решительно подчиняет себе внутренний, т. е. художественный? Что представляет собой этот могущественный внешний хронотоп?
По Бахтину «это само государство (причем — всё государство со всеми его органами), высший суд, вся наука, всё искусство […], весь народ» (282). Некая тотальность уже налицо. Именно ввиду этой тотальности созидается «новый тип биографического времени и новый специфически построенный образ человека, проходящего свой жизненный путь» (281).
Итак, жизненный путь «всецело» (тотально) определяется государством, причем «специфически построенный образ человека» должен соответствовать жестко заданным [261] этим государством нормам. Прямое соответствие при этом заслуживает «публичного прославления», а само наложение норм государственного воздействия на личность мыслится как форма «самоотчета», но именно «публичного», перед лицом государственных органов.
Разумеется, при таком подходе к человеку у него не было и не могло быть ничего интимно-приватного, секретно-личного, повернутого к себе самому, принципиально одинокого. Человек здесь открыт во все стороны, он весь вовне, в нем нет ничего «для себя одного», нет ничего, что не подлежало бы публично-государственному контролю и отчету (283).
Но ведь аналогичную картину мира, воспринимаемую как должное, мы видим в социалистической модели культуры. Так, приводимая в качестве иллюстрации «сплошной овнешненности» несдержанность античного человека в выражении своих эмоций, необыкновенная шумливость и рассчитанная на внешний резонанс аффектация («герои Гомера очень резко и очень громко выражают свои чувства» (284)) типологически совершенно аналогична шумным политическим кампаниям в советские двадцатые (да и последующие) годы – с особой атмосферой перманентной борьбы с внешними и внутренними врагами. Причем принципиально важна тотальность охвата: для внутреннего (молчаливого, углубленного) осмысления и переживания государственных начинаний не должно оставаться никаких потенциальных убежищ. «Немая внутренняя жизнь, немая скорбь, немое мышление были совершенно чужды греку» (284), — замечает М.М. Бахтин. Однако же и в тоталитарном миропорядке отдельные попытки смолчать (когда, например, необходимо публично заклеймить очередных врагов – русских ли патриотов-«националистов», либо «безродных космополитов»), т.е. «остаться в стороне» от публичного выражения эмоций (тоже резкого и громкого), тут же разоблачаются. Скрываемое молчанием (немотой) подлежит неизбежному итоговому раскрытию – другими – [262] и уже тем самым обязательно прозвучит как молчаливая поддержка инакомыслящих, требующая публичного остракизма.
Даша Чумалова, героиня романа Ф. Гладкова «Цемент», заявляет своему мужу: «Я — партийка, Глеб. Не забывай этого». На «приватный» вопрос Глеба – «Где же дочка?» — следует «государственный» ответ: «Нюрка — в детдоме. Иди отдыхай. Мне ни минуты нельзя… Разговор у нас будет потом… Сам понимаешь: партдисциплина».
Савчук, один из героев этого же романа, словно бы публично демонстрирует механизм овнешнения человека и исчезновение самодостаточной ценности личности: «Не завод, а сорная яма, козье гнездо… Нет его… А ежели нет его — где же я?..» У гладковского персонажа, подобно античному герою, «нет ничего для себя одного».
В антиутопиях, изображающих тоталитарный миропорядок («Мы», «1984» и др.), легко обнаружить подобное античному соотношение человека и государства. «Что за дикая терминология: “мой”…» — убеждает себя еще вписывающийся в публично-государственный жизнеуклад Д-503 из замятинского романа.
Античный хронотоп М.М. Бахтин характеризует как «удивительный», поскольку «все высшие инстанции — от государства до истины — были конкретно представлены и воплощены, были зримо наличны. И в этом конкретном и как бы всеобъемлющем хронотопе совершались раскрытие и пересмотр всей жизни гражданина, производилась публично-гражданская проверка ее» (283).
Однако еще более удивительно, что позднейший тоталитарный космос построен по законам эстетики, фиксируемой русским философом. «С каждого заметного угла смотрело лицо черноусого. С дома напротив — тоже. “Cтарший брат смотрит на тебя”, — говорила подпись, и темные глаза глядели в глаза Уинстону». Всеобъемлющий хронотоп, о котором писал Бахтин, в оруэлловском романе присутствует на всех уровнях. Министерство Правды, «это исполинское пирамидальное здание […], вздымалось, [263] уступ за уступом, на трехсотметровую высоту». Весьма существенна зримая наличность высших инстанций: «четыре министерства, весь государственный аппарат […] настолько возвышались над городом, что с крыши жилого дома “Победа” можно было видеть все четыре разом». С другой же стороны, имеется и обратная связь: «полицейский патруль заглядывал людям в окна»; «телеэкран работал на прием и на передачу. Он ловил каждое слово». Налицо то «раскрытие […] всей жизни гражданина», которое характерно как будто только для греческого полиса.
Три партийных лозунга («Свобода — это рабство, Война — это мир, Незнание – сила») одновременно располагаются на исполинском здании Министерства Правды (макроуровень) и как бы помещаются в кармане героя (на микроуровне): «Он вынул из кармана двадцатипятицентовую монету. И здесь мелкими буквами те же лозунги, а на оборотной стороне — голова Старшего Брата. Даже с монеты преследовал тебя его взгляд […]. Всюду тебя преследуют эти глаза и обволакивает голос. Во сне и наяву, на работе и за едой, на улице и дома, в ванной, в постели — нет спасения». Итак, мы видим принципиальную «одноуровневость» жизни. Между макро- и микроуровнями нет никакой семантической разницы, как нет ее между лицевой и оборотной сторонами монеты Океании. Жизнь героя полностью открыта для контроля и в высшей степени публична. Регулярная гражданская «проверка», о которой писал Бахтин, совершаемая здесь при помощи могущественных технических средств, оставляет далеко позади античные аналоги. Так, «абсолютное преступление», которое призвана раскрывать в тоталитарном государстве «полиция мыслей», — это «мыслепреступление»: скрываемое внутреннее начало; некий «остаток» человечности после заполнения публичной роли. Преследуется то, что выходит за пределы античного тотального овнешнения.
По-видимому, очевидное совпадение тоталитарной и античной ментальности невозможно объяснить никакими прямыми генеалогическими связями между ними. Речь [264] может идти только о типологической идентичности. Но это не совпадение утопических проектов (от «Государства» Платона до Маркса) и их практической реализации. Скорее, мы можем констатировать повторение, нетворческое удвоение уже имевшего место соотношения человека и мира (государства), возврат к бывшему ранее, а затем преодоленному видению человека.
По крайней мере, «удивительный хронотоп» греческого мироотношения может осознаваться в качестве такового, когда исследователь способен поместить его в какой-то иной контекст. Только при такой методологической операции ощущается контрастность античного образа человека и иного, более «обычного». Поразительная «сплошная овнешненность» (284) индивида фиксируется лишь с позиции вненаходимости к исследуемому объекту. М.М. Бахтин специально оговаривает, что «грек именно не знал нашего разделения на внешнее и внутреннее (немое и незримое)» (285) уже потому, что «всякое бытие для грека классической эпохи было и зримым и звучащим. Принципиально (по существу) невидимого и немого бытия он не знает. Это касалось всего бытия и, конечно, прежде всего человеческого бытия» (284).
Что это означает с современной точки зрения или же, сузив ракурс рассмотрения европейскими рамками, с точки зрения христианской? В античной культуре раннего периода отсутствует главное: разграничение души и тела, принципиальная разноуровневость и иерархичность этих важнейших категорий христианского сознания. Как нам представляется, именно в этом смысле следует понимать утверждение М.М. Бахтина, что с позиций [265] древнегреческой классики «в самом человеке нет никакого немого и незримого ядра: он весь видим и слышим, весь вовне; но нет и вообще никаких немых и незримых сфер бытия, которым человек был бы причастен и которыми он определялся» (285).
В иной терминологии однородность и одномерность мира, где отсутствует «невидимое бытие», пытается выразить герой замятинского романа. «Так вот — плоскость, поверхность […]. И на поверхности мы с вами […]. Только на поверхности, только секундно».
Показательно, что А.Ф. Лосев – при всех известных разногласиях с Бахтиным, касающихся оценки романа Рабле, — в характеристике важнейшей доминанты античности с ним вполне совпадает. «Вся античность, как я доказываю в своих семи томах, — говорил он, — основана на интуициях телесного, вещественного характера. И для нее абсолют – видимое небо, небесный свод, звезды, солнце, луна; вот это видимый, осязаемый, слышимый, как они считали, космос, материальное чувство – это для нее абсолют. Античность исходит из интуиции вещи… Что такое античная скульптура, как не изображение человека в виде вещей». На этом основании Лосев делал вывод об «односторонности античности» и о том, что античный человек «не чувствовал собственной личности». Да и в целом такая система «слишком пустынна. Это дало возможность потом… появиться новой культуре, основанной на личности, взятой с абсолютной позиции» (7). В последнем случае имеется в виду, конечно, христианская культура. Личность же, «взятая с абсолютной позиции», — Христос.
Прорыв «сплошной овнешненности» не случайно представляет собой главную опасность для тоталитарного государства. Ведь в отличие от древнего грека, не знавшего «разделения на внешнее и внутреннее» (тело и душу), цивилизация, уже обогащенная христианским этапом исторического развития, знает и помнит о существовании [266] иного — внутреннего — измерения человека. Если еще традиция Ветхого Завета в целом вполне соответствует традиции героического эпоса, где конфликты с миром носят по преимуществу внешний характер борьбы с внешними же врагами, то Новый Завет весь построен на постижении именно «немого и незримого ядра» человеческой личности — души человека.
Поэтому совершенно закономерным образом главным врагом тоталитарной культуры (по крайней мере в советском исполнении) становится как раз человеческая душа — и стоящая за ней, осмысливающая ее двухтысячелетняя христианская традиция. Вспомним, что работник Медицинского Бюро заявляет герою-рассказчику замятинского романа: «Плохо ваше дело! По-видимому, у вас образовалась душа […]. “Это… очень опасно”, — пролепетал я. “Неизлечимо”, — отрезали ножницы (ножницы-губы собеседника — И.Е.)». Его медицинский коллега замечает: «Как: душа? Душа, вы говорите? Черт знает что! Этак мы скоро и до холеры дойдем». Последняя фраза указывает на определенную ретроспекцию направления мысли героя. Душа, как и холера, при таком подходе — это нечто бывшее в прошлом (а не отсутствовавшее вовсе, как в раннем античном представлении), но уже преодоленное и исчезнувшее в настоящем. Благодаря ее искоренению и оказывается возможной типологическая общность тоталитарной модели человека и античных образцов, не знавших разделения ядра и оболочки, внутреннего и внешнего. Однако аналогия «чума/душа» говорит и об опасности «образования» и восстановления того и другого. Имеются очаги «заразы», которые представляют для тоталитарного режима потенциальную угрозу возвращения к христианскому менталитету, возвращения в разнородный мир с иерархией внутреннего и внешнего, физического и духовного.
Тогда как механизм тоталитарных метаморфоз, обратный вышеописанному, представляет собой избавление от внутренней незримой духовной жизни в пользу «нового [267] сплошного овнешнения» (236)(8). Характерно, что Павел Корчагин «за подругу, превращающуюся в большевика» на последних страницах романа испытывает «гордость». Герой Цемента говорит о душе как о чем-то внешнем ему: «Даша, я теперь как бездомный пес. Всю душу вложил в завод». Отметим глагольную форму прошедшего времени, свидетельствующую о полной и окончательной передаче героем своей души другому объекту. Поэтому предисполкома Бадьин в речи на открытии завода имеет некоторые основания заявить о победе «на хозяйственном фронте»: «победа огромная нечеловеческая — это пуск нашего завода». Уинстон после предательства Джулии диагностирует свои ощущения: «В твоей груди что-то убито — вытравлено, выжжено». То «окончательное, необходимое исцеление», о котором говорит в финале герой, — это исцеление от души, возвращение к одномерному дохристианскому состоянию.
Это возвращение к публичному овнешнению человеческой жизни, освобождение от христианского сознания, для которого характерно, используя уничижительную формулу замятинского героя, «дикое состояние свободы», осознается героями как победа и выздоровление. В классических произведениях советской литературы, избранных нами для иллюстрации механизма овнешнения, победой и выздоровлением завершается каждый из романов.
Категорию финальной победы в Цементе мы уже отметили выше. Можно добавить к этому, что Чумалов (и эта говорящая фамилия основного «положительного» героя романа весьма симптоматична) тоже говорит о победе: «“Мы ставили ставку на кровь и своею кровью зажгли весь земной шар […]. К победе, товарищи!..” Глеб схватил красный флаг и взмахнул им над толпой. И сразу же охнули горы, и вихрем заклубился воздух в металлическом вое».
Телеграмма из обкома, полученная Корчагиным, гласит: «“Приветствуем победой”. /…/ Разорвано железное кольцо, и он опять — уже с новым оружием — возвращается в строй и к жизни».
Оступившийся было и обретший душу замятинский [268] персонаж-рассказчик, после «Великой Операции» «явился к Благодетелю и рассказал ему все, что […] было известно о врагах счастья». Упомянутая им «прежняя моя болезнь (душа)» — позади, поэтому Д-503 выражает надежду, что «мы победим. Больше: я уверен — мы победим. Потому что разум должен победить»
.
Наконец, «1984». Текст завершается двойной победой. «Победа… величайшая победа в человеческой истории… победа, победа, победа!» — это «ликующие крики на улице». Но и сам герой «одержал над собой победу»: отрекся от внутреннего измерения.
Таким образом, радостное и победное освобождение от души в финалах — это, прежде всего, триумф в борьбе с религиозной ментальностью, религиозным сознанием. Воспоминание о христианском образе души (обретение души) осознается как опасная болезнь, требующая немедленного вмешательства и поражения возникшего очага новой христианизации, сравниваемой с холерой. Тотальное обездушивание — необходимая операция на пути к овнешнению. К. Кларк, не связывая советские произведения 30-х годов с античными биографическими жанрами, тем не менее, совершенно верно замечает, что в этот период «роман превратился в ритуализованную биографию» (9). Произведения и сама жизнь приобретают черты не воплощенной утопии, а антихристианской цивилизации.
Тоталитарные империи, в отличие от античных государств, имели в своем прошлом христианскую корневую систему, поэтому овнешнение человека совершается здесь не естественным (дорефлексивным), а искусственным и всегда насильственным образом. Необходимы были особые сверхусилия и жестокая борьба, чтобы отменить двухтысячелетнюю христианскую историю. В Советской России, как известно, на достаточно продолжительное время «запретили» даже день недели – воскресенье, — заменив его название, неразрывно связанное с христианским прошлым, на нейтральный эвфемизм «выходной день». [269]
Можно вспомнить и о введении нового летоисчисления, конкурирующего с христианским, а в перспективе, возможно, призванного заменить его. В советских календарях отчет велся не от рождения Христа, а от периода сокрушения христианского государства. В результате существовали две параллельные системы летоисчисления. О действенности антихристианского календаря можно судить хотя бы по тому факту, что последняя Конституция СССР была принята в октябре 1977 года, к «круглому» юбилею Октябрьской революции. Нельзя не отметить и реформу орфографии, в результате которой, в частности, у христианского Бога был «отнят» графический атрибут Его личностности и абсолютности: прописная буква в написании. Таким образом «кто» законодательно превращался в «что». Но ведь тот же А.Ф. Лосев, пытаясь сформулировать «односторонность» античности, говорил: «Нет никого, раз нет личности, и есть только «что», а не «кто» (10).
В пределе борьба с «проклятым прошлым» в России — это борьба в первую очередь с христианским прошлым как таковым, христианской системой ценностей, возвращение к доевангельскому видению человека. В ранний период античной культуры «внутреннего» не было, ибо не знали о его существовании, отличном от «внешних» проявлений. В советский же период «внутреннего» не было, ибо о его существовании знали очень хорошо, — и все силы были брошены на его искоренение.
В России, не имевшей, в отличие от некоторых других европейских христианских держав, эпохи Возрождения как необходимой «прививки», смягчившей последующие волны секуляризации жизни (и последовательного размывания категорий «внешнего» и «внутреннего», «телесного» и «духовного»), внезапный мощный удар по религиозному сознанию со стороны государства надолго определил для подавляющего большинства народа бывшей Российской империи потерю всяких нравственных ориентиров, а, следовательно, тотальное овнешнение и деградацию жизни. [270]
Самая существенная разница между «сплошной овнешненностью» в античный период и в советскую тоталитарную эпоху состоит в том, что для древнего грека «не могло быть никаких принципиальных различий между подходом к чужой жизни и подходом к своей собственной жизни» (283). В тоталитарных же режимах, как правило, четко разграничиваются творцы, идеологи государственной доктрины и рядовые «жильцы» этого государства. Есть «авторы» тоталитарного произведения, которые пребывают в позиции «вненаходимости» (и живут совсем по другим законам, нежели рядовые участники исторической драмы), а есть «герои», находящиеся «внутри» здания. «Эстетическая деятельность» тех и других тоже различна. «Герои» призваны с энтузиазмом осуществлять героическую деятельность (11), но «придумывает», навязывает и воспевает эту деятельность совершенно иной разряд тоталитарного общества — слой «романтиков». Именно в этой элитарной прослойке, которая и появляется вследствие насильственного овнешнения «чужой жизни», рождались идеи о «насильственной гармонизации» сверху, о государстве как тотальном произведении искусства (12). Кстати, с этой же — эстетической — точки зрения можно рассмотреть и концепцию «железного занавеса». Произведение искусства всегда имеет жесткие рамки (границы текста), извлекающие его из неупорядоченной и порой хаотической «сырой» действительности. Тоталитарное государство, чтобы стать именно произведением искусства, также должно быть завершено в себе и непроницаемо для внешних воздействий со стороны неуправляемой иной реальности. Именно поэтому так существенна роль охраны границ государства-произведения. В некотором смысле проблема целого художественного произведения, т. е. его специфической «тотальности», — это именно проблема его границ. Для социалистического эксперимента также необходима некоторая рамка и некоторый ограниченный участок социума.
Может быть, и функция псевдонимов, столь [271] беспрецедентно массовых в правящем слое совдеповской России, отчасти проясняется при избранном нами подходе к теме. Ведь псевдонимы, как правило, — это привилегия художников, а отнюдь не политиков. В нашем же случае они были оставлены, а не отброшены, когда уже отпала прагматическая необходимость у пламенных революционеров скрывать собственные биографии: обладатели псевдонимов сами стали властью. Но, по-видимому, они продолжали считать себя демиургами (авангардистского толка), вынужденными работать с весьма трудным «материалом».
Любопытно, что под лозунгами «равенства» и «братства» (для рецепции «героями») осуществлялось – совершенно подобное античному, а потому антихристианское – разделение на «рабов» (подавляющее большинство жителей страны, как известно, не имело возможности не только покинуть ее пределы, но и преодолеть «границы» отведенного им места в той или иной главе тоталитарного произведения – родном колхозе-«полисе», не имея гражданских паспортов; имевшие же паспорта горожане были прикреплены к своему топосу системой прописки) и «рабовладельцев», регулирующих как передвижение «рабов», так и все прочие их «права».
Надо сказать, термин «рабы» — безотносительно античности, но зато имеющий прямое отношение к будущему социалистическому строительству, был употреблен в 1872 году Ф.М. Достоевским в романе «Бесы» при описании проекта Шигалева (спустя полвека полностью осуществленного в России). В нем мы можем обнаружить то жесткое «разделение человечества на две неравные части», которое было возможно только в античную эпоху. Для нас существенно, что предполагаемая двухчастная структура основывалась именно на потере личности «девятью десятыми», то есть на обращении этой косной массы («стада») в дохристианское состояние («при безграничном повиновении» активному меньшинству, которое и ведет в «первобытный рай» — аналог коммунизма – обезличенное [272] стадо, само с ним отнюдь не смешиваясь). Напротив того, как показывает Достоевский, обнаживший сам механизм будущего тоталитаризма, «одна десятая доля получит свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми».
Между прочим, жгучая обида «старых большевиков» на Сталина как раз и состояла в том, что вождь шулерски (как они считали) смешал карты, стал периодически перетряхивать колоду, нарушая важнейший негласный принцип константного «разделения человечества». Бил «своих» так же больно, как можно было бить только «чужих». При таком раскладе размывались казавшиеся ранее навсегда установившимися отношения между «авторами» и «героями», а, стало быть, кардинально менялась и сама «эстетическая деятельность» — цель созидаемого государства-произведения. Вероломство Сталина состояло в том, что он самовольно («культ личности») превращал «авторов» в «героев», «режиссеров» — в «актеров», то есть помещал создателей ада для других в созданный ими же ад вместе с другими. Антихристианское представление о разной ценности человеческих жизней отнюдь не исчезло: насильственное овнешнение «девяти десятых» в годы сталинщины только усугубилось. Но наряду с этим на гибельные «общие работы», выражаясь лагерным жаргоном, стали попадать и пребывавшие ранее в позиции «вненаходимости» бесы революции. С другой стороны, вождь зачастую совершал и обратную перестановку, при которой «герои» становились «авторами», а «актеры»-жертвы могли стать «режиссерами»-палачами. Используя содержательную терминологию Бахтина, наступил «кризис авторства», но при полном сохранении самой двухчастной структуры тоталитарного общества.
Поэтому вплоть до самого последнего времени наши коммунистические «романтики» — это авторы судеб чужих жизней, четко осознававшие разницу между своими марксистскими романтическими «планами» и чужими героическими «успехами» [273] в исполнении этих планов. Для удачной реализации строительства социалистического государства (или, принимая метафору X. Гюнтера, для успешного создания социалистического государства как «произведения соцреализма») необходимо было лишить других людей их собственного духовного измерения, лишить человека внутреннего ядра личности, превратив его в «героя» и прославив сам процесс овнешнения, конечный итог которого – обращение личности в «вещь». Но эта операция невозможна без предварительной работы по искоренению главного препятствия на пути тотального овнешнения — сложившегося христианского сознания, открывшего для себя могущественные «незримые сферы бытия», куда можно уйти от «насильственной гармонизации».
Советский тоталитаризм не сводится ни к всеобщей героизации жизни миллионов жертв, ни к революционной романтике новой элиты инквизиторов. Сторонники первой точки зрения абсолютизируют самозначимость «героев» тоталитарного произведения, сторонники второй преувеличивают способности «авторов»-демиургов. Между тем, М.М. Бахтин в своей работе «Автор и герой в эстетической деятельности» показал главную особенность самой «эстетической деятельности»: разнонаправленность задач двух участников художественного события.
Возвращаясь к заявленной теме, тоталитарную доктрину можно сформулировать как особый тип самообожествления, при котором романтически героизируется заведомо богопротивное, антихристианское дело: овнешнение человеческой личности. [274]
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Бочаров С.Г. Об одном разговоре и вокруг него // Новое литературное обозрение. 1992. № 2. С. 82.
2. Как пишут труды, или Происхождение несозданного авантюрного романа (Вадим Кожинов рассказывает о судьбе и личности М.М. Бахтина) // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1992. № 1. С. 115.
3. «Так, собственно, завязалась уже целая история…» (Георгий Гачев вспоминает и раздумывает о М.М. Бахтине) // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1993. № 1. С. 106.
4. Бочаров С.Г. Указ. соч. С. 80.
5. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 361.
6. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 234. Далее ссылки на это издание, страница указывается в скобках.
7. Лосев А.Ф. Страсть к диалектике. М., 1990. С. 57, 64.
8. Это формула М.М. Бахтина, использованная им для характеристики романа Рабле. Содержательная интерпретация концепции раблезианской телесности в аспекте интересующей нас проблемы крайне важна, но она выходит за пределы данной работы.
9. Кларк К. Сталинский миф о «великой семье» // Вопросы литературы. 1992. № 1. С. 89.
10. Лосев А.Ф. Указ. соч. С. 64.
11. Об «институте героев» в советской культуре см. блестящую работу Х. Гюнтера «Сталинские соколы: Анализ мифа 30-х годов» // Вопросы литературы. 1991. № 11-12. С. 122-141.
12. Cм. об этом: Гюнтер Х. Железная гармония: Государство как тотальное произведение искусства // Вопросы литературы. 1992. № 1. С. 27-41. [275]
Cтатья опубликована: Грани. Frankfurt/Main. 1994. № 171. C. 257-275.
Фрагмент работы под названием «Овнешнение человека при тоталитаризме и религиозное сознание» опубликован в журнале Russian Literature. 1998.

2 комментария
Спасибо, Иван Андреевич, за размещение статьи. Крайне нужна и очень созвучна
Правда? Очень рад. Потому что для этого размещения мне пришлось посидеть часа два. Ведь писалось это в докомпьютерную эру. Двадцать лет назад.
Последние записи
Последние комментарии
Архивы