БОГАТЫРСКАЯ ДОБЛЕСТЬ КАЗАКОВ И УДАЛЬ ЛЯХОВ : ТИПЫ ГЕРОИКИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ ГОГОЛЯ
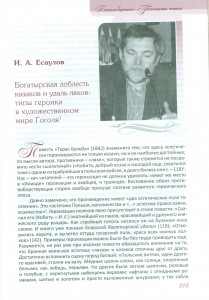
Повесть «Тарас Бульба» (1842) знаменита тем, что здесь эстетически героизируются не только казаки, но и их наиболее достойные, по мысли автора, противники – «ляхи», которые также стремятся не посрамить чести «шляхтичей» («Кобита, добрый козак и молодой еще, схватился тоже с одним из храбрейших в польском войске, и долго бились они». – 118) (2). Нас – как читателей – эта героизация не должна удивлять: имеет же место в «Илиаде» героизация и ахейцев, и троянцев. Воспевание обеих противоборствующих сторон вообще присуще поэтике развитого героического эпоса.
Давно замечено, что произведение имеет «два эстетических поля тяготения». Это «эстетика Польши, католичества и <…> эстетика православия, козачества» (3). Героизация поляков явно присутствует в стиле повести: «Свалил его (Кобиту. – И.Е.) знатнейший из панов, красивейший и древнего княжеского роду рыцарь. Как стройный тополь носился он на буланом коне своем. И много уже показал боярской богатырской удали» (118); «Отворились ворота, и вылетел оттуда гусарский полк, краса всех конных полков» (142). Примеры героизации можно было бы без труда приводить еще. Разумеется, не раз уже при анализе повести обращалось внимание на то, что бранная воинская эстетика «ляхов» и казаков отличны друг от друга. Достаточно вспомнить сцену перед битвой: «Польские витязи, один другого красивей, стояли на валу. Медные шапки сияли, как солнца, оперенные белыми, как лебедь, перьями. На других были легкие шапочки, розовые и голубые, с перегнутыми набекрень верхами; кафтаны с откидными рукавами, шитые и золотом и просто выложенные шнурками; у тех сабли [275] и оружья в дорогих оправах, за которые дорого приплачивались паны, – и много было всяких других убранств <…> Козацкие ряды стояли тихо перед стенами. Не было на них ни на ком золота, только разве кое-где блестело оно на сабельных рукоятях и ружейных оправах. Не любили козаки богато выряжаться на битвах; простые были на них кольчуги и свиты, и далеко чернели и червонели черные червоноверхие бараньи их шапки» (114-115). В дальнейшей же интерпретации повести мы обратимся к менее очевидным моментам ее поэтики.
В произведении, всецело проникнутом героическим пафосом, эстетически героизирован и изменник Андрий: «Отворились ворота, и вылетел оттуда гусарский полк, краса всех конных полков. Под всеми всадниками были все, как один, бурые аргамаки. Впереди перед другими понесся витязь всей бойчее, всех красивее. Так и летели черные волосы из-под медной его шапки <…> А он <…> объятый пылом и жаром битвы <…> понесся, как молодой борзой пес, красивейший, быстрейший и молодший всех в стае <…> Остановился старый Тарас и глядел на то, как он чистил перед собой дорогу, разгонял, рубил и сыпал удары направо и налево» (142). Дело в том, что «диалог согласия» автора, читателя и героя возможен в художественном целом этой повести лишь в героическом – и никаком другом – секторе их эстетической же «встречи». Именно такое направление читательской активности диктует текст произведения, именно на этом пути авторская интенция может завершиться читательским «катарсисом».
Уже после перехода Андрия на сторону поляков в описании героя продолжают звучать патетические мотивы: «…ясною твердостью сверкал глаз его, смелою дугой выгнулась бархатная бровь, загорелая щека блистала всею яркостью девственного огня, и, как шелк, лоснился молодой черный ус» (101); «…как солнце взглянет весной, когда в огороде всякая пташка пищит и поет, и травка пахнет, так и он весь сияет в золоте» (112); «Впереди перед другими понесся витязь всех бойчее, всех красивее. Так и летели черные волосы из-под медной его шапки; вился завязанный на руке дорогой шарф, шитый руками первой красавицы» (142); «Он был и мертвый прекрасен: мужественное лицо его, недавно исполненное силы и непобедимого для жен очарования, все еще выражало чудную красоту…» (144). Весьма существенно, что здесь представлены точки зрения на Андрия таких непохожих (и принадлежащих разным типам культуры) персонажей, как прекрасная полячка, Янкель, Тарас Бульба, ― однако во всех случаях это изображение героического персонажа.
Для понимания художественной природы гоголевской повести следует учитывать, что героика – совершенно особое состояние поэтического универсума. Так, В.В. Федоров в своем глубоком исследовании поэтической реальности «Тараса Бульбы» акцентирует «активную враждебность» героики и прозаического состояния мира в этом произведении. Со многими положениями исследователя невозможно не согласиться. В частности, он отмечает, что «правда героического мира превращается в неправду в контексте мира прозаического – вот это превращение и есть форма гибели героического <…> Спасение Остапа не удается не потому, что Мардохаю [276] изменила его неслыханная предприимчивость и изворотливость, а потому, что Остап – как героическое лицо – несоизмерим с деньгами как мерой вещей прозаического мира <…> Он может спасти себя только ценой преступления в себе героического: само спасение оказывается формой превращения героического в прозаическое. (Здесь, кстати, особенно очевидно, что “единомышленники” Тараса по спасению Остапа – Янкель и Мардохай – являются его противниками как “меркантильные существа”)»(4).
Однако мы усматриваем некоторый исследовательский «произвол» как раз в интерпретации образа Андрия Федоровым. По его мнению, «поведение Андрия прозаично, несмотря на силу и удаль героя»; «Любящим и любимым Андрия может быть <…> как прозаическое лицо» (5). Мы хотели бы заметить, что Андрий, как и Остап, говоря словами Федорова, «несоизмерим с деньгами как мерой вещей прозаического мира» (на наш взгляд, это достаточно очевидно и не нуждается в особой аргументации), а следовательно, уже поэтому не может быть отнесен к персонажам прозаическим (романным). Кроме того, опять же перефразируя Федорова, можно сказать, что «ляхи», являясь военными противниками запорожцев, на самом деле становятся – в героическом целом произведения – их «союзниками», ибо – в качестве польских «лыцарей» – являются необходимыми для удержания мира в его героическом (а не прозаически-романном) состоянии. Без «ляхов» отчасти даром «пропадает козацкая сила: нет войны!..» (73).
Что же касается Андрия, то, действительно, первая встреча с прекрасной полячкой происходит на границе прозаического и героического кругозоров (как и иная повседневность бурсаков, того же Остапа: вспомним, что гоголевские персонажи «забыли вмиг <…> всё, что волновало прежде душу и предались новой жизни», только попав на Сечь. – 67), однако «любящим» героиню и «любимым» ею Андрий становится в качестве героя (а не романного персонажа). Ведь и полячка, обращаясь в своей мольбе к «Святой Божьей Матери» (105), принимает Андрия – как любимого – лишь после его вполне «героического» монолога, где возлюбленная фигурирует как раз в общем контексте с отчизной – и даже как отчизна. Причем «кинулась <…> к нему на шею» (107) панночка тоже отнюдь не как прозаический персонаж, добившейся свой прагматической «цели» – измены Андрия. Напротив, подчеркивается прямо противоположное душевное движение. Изображая стремительность панночки, повествователь замечает, что на такое движение «бывает способна одна безрасчетно великодушная женщина» (106). В каждой из двух редакций повести это безрасчетное великодушие не подвергается сомнению. Редакция 1842 г.: «К великому моему горю, знаю слишком хорошо, что тебе нельзя любить меня; и знаю я, какой долг и завет твой: тебя зовут твои отец, товарищи, отчизна, а мы – враги тебе» (106); редакция 1835 г.: «А твои товарищи, а твой отец? – ты должен итти к ним, – говорила она тихо» (318).
При этом весьма показательно, что в окончательной редакции Гоголь отказывается от описания трусости, малодушия Андрия ― видимо, противоречащих героическому целому повести. Сравним параллельные эпизоды. [277] Редакция 1835 г.: Андрий, «как подлый трус, спрятался за ряды своих солдат и командовал оттуда своим войском <…> “Спасите, – кричал он, отчаянно простирая руки, – куда бежите вы? Глядите: он (Тарас. – И.Е.) – один!” <…> Отчаянный Андрий сделал усилие бежать» (321). Напротив, в редакции 1842 г. Андрий через Янкеля демонстративно открыто бросает вызов запорожскому воинству: «Скажи отцу, скажи брату, скажи козакам, скажи запорожцам, скажи всем <…> что я с ними буду биться со всеми. Со всеми буду биться!» (113). Если в первой редакции Андрий со своим отрядом стоит «по-видимому, в засаде» (320), то во второй он «чистил перед собой дорогу, разгонял, рубил и сыпал удары направо и налево» (142). Андрий здесь явно эстетически героизирован автором: он как истинно героическая личность идет навстречу своей судьбе.
Однако и находясь еще в рядах запорожского войска, Андрий «понуждаемый одним только запальчивым увлечением, устремлялся на то, на что бы никогда не отважился хладнокровный и разумный, и одним бешеным натиском своим производил такие чудеса, которым не могли не изумляться старые в боях» (85). Для него, в отличие от хладнокровного Остапа, битва – прежде всего, особое пиршество: «Андрий весь погрузился в очаровательную музыку пуль и мечей. Он не знал, что такое значит обдумывать или рассчитывать, или измерять заранее свои и чужие силы. Бешеную негу и упоение он видел в битве. Пиршественное зрилось ему в те минуты, когда разгорится у человека голова, в глазах всё мелькает и мешается, летят головы, с громом падают на землю кони, а он несется, как пьяный, в свисте пуль, в сабельном блеске и в собственном жару, нанося всем удары и не слыша нанесенных» (85). В сущности, в рядах польского воинства Андрий продолжает тот же самый бранный пир: оттого-то он и «не различал, кто пред ним был, свои или другие какие; ничего не видел он» (142-143). Заметим, что не только в этом случае для Андрия различие «свои или другие какие» перестает быть существенным. И польские «наши» ― не только им, но и его возлюбленной ― также не воспринимаются вполне своими: «В это время вбежала к ним с радостным криком татарка. “Спасены, спасены! – кричала она, не помня себя. – Наши вошли в город” <…> Но не слышал никто из них, какие “наши” вошли в город…» (107).
Г.В.Ф. Гегель, характеризуя героическое состояние мира, указывал, что «когда для какого-нибудь самого по себе вполне твердого характера две противоположные жизненные сферы, обязанности <…> представляются равно святыми и при этом он видит себя вынужденным встать на одну сторону, забыв о другой, тогда колебания – это только переход, они не составляют самой сути характера. И нечто совсем иное – трагическая ситуация» (6). Для Андрия характерна именно соотнесенность с каким-либо одним типом миропорядка, и здесь мы вынуждены возразить тем, кто полагает, что «его личность начинает раздваиваться. В его душе два слоя эмоций: увлечение казацкой жизнью и любовь к прекрасной польке»(7). ― Раздвоенность, присущая трагическим героям, чужда Андрию, который в увлечении любовью «видит себя вынужденным» раз и навсегда отказаться от казацкой жизни. [278]
Следует при этом заметить, что для Янкеля, выполняющего в героическом целом «Тараса Бульбы» функцию типологически близкую той, какую в «Илиаде» выполняет Терсит, вины Андрия вообще не существует: «Чем человек виноват? Там (у поляков. – И.Е.) ему лучше, туда и перешел» (113). Однако подобное «объяснение» маргинального для героического мира персонажа, сводящего свободное самоопределение Андрия к его личной – «романной» – заинтересованности, выгоде, характеризует, скорее, самого Янкеля и призвано оттенить, выступить субдоминантным фоном для возможности кардинально иного понимания авторского замысла.
Побудительной силой действия для Андрия становится, строго говоря, не место в рядах польского рыцарства, а рыцарское служение даме, «долг» любви. Вспомним сцену свидания в осажденном городе: «…не слышал никто из них, какие “наши” вошли в город» (107). Даже в битве с запорожцами «Андрий не различал, кто пред ним был, свои или другие какие: ничего не видел он. Кудри, кудри он видел, длинные кудри и подобную речному лебедю грудь, и снежную шею, и плечи, и всё, что создано для безумных поцелуев» (142-143). «Отчизна моя – ты!» (106), – говорит полячке Андрий: он целиком принимает на себя иное предназначение и готов отдать за него жизнь.
Следует иметь при этом в виду, что «долг» героической личности по отношению к своему предназначению не является чем-то навязанным извне: героям присуще единство «субстанциального начала и индивидуальных склонностей»(8). Так, Тарас Бульба именно потому считал себя вправе нарушить клятву и «пойти на Турещину или на Татарву» (68), что находит в себе могущественные сверхличные силы: «Так, стало быть, следует, чтобы пропадала даром козацкая сила, чтобы человек сгинул, как собака <…> Так на что же мы живем?» (69). Персонажи героического состояния мира, в «особенностях» которых «заключено и всеобщее»(9), совершенно свободно выбирают свои личные «пути», которые одновременно являются реализацией и сверхличного «предназначения». Символизирует эту свободу в рамках осуществления «козацкой славы» разделение казачьего войска на две части под Дубно: «Те, которым милы захваченные татарами, пусть отправляется за татарами, а которым милы полоненные ляхами <…> пусть остаются» (125).
Не стоит забывать, что возможность самоопределения через любовное чувство изначально заложена в Андрии. Вспомним хрестоматийно известное сопоставление характеров сыновей Бульбы: «Андрий имел чувства несколько живее и как-то более развиты <…> Он также кипел жаждою подвига, но вместе с нею душа его была доступна и другим чувствам» (55). Подобно тому, как, оказавшись в Сечи, «Остап и Андрий <…> забыли вмиг и отцовский дом, и бурсу <…> и предались новой жизни», Андрий так же решительно порывает с этой жизнью: «”А что мне отец, товарищи, отчизна? <…> Так если ж так, так вот что: нет у меня никого! Никого, никого!” – повторил он тем же голосом, и сопроводив его тем движением руки, с каким упругий, несокрушимый козак (! – И.Е.) выражает решимость на дело [279] неслыханное и невозможное для другого» (106). Подчеркнем, во избежание недоразумений, – мы в данном случае рассуждаем не об этической стороне выбора Андрия, но исключительно об эстетическом завершении героя автором. В конце концов, и целый ряд поступков запорожцев (и самого Тараса Бульбы), если их оценивать с этической, а не с эстетической стороны, вряд ли являются похвальными, но ведь сомнения в их этичности не позволяют усомниться в героическом характере гоголевской «эпопеи»? Да и работа немецкого философа, с центральной для нее категорией именно героического, на которую мы ссылались выше, имеет название «Эстетика» (а не «Этика»).
В душе Андрия не могут ужиться два долга. От одного их них – без малейших колебаний – он целиком отказывается во имя другого: «Андрий вознегодовал на свою козацкую натуру» (102). Заметим, что в диалоге с татаркой, пришедшей от панночки, он сам торопит ее: «Идем, идем сейчас!» (91). Переход к другому миропорядку оформлен выразительным пространственным образом: «Когда Андрий оглянулся, то увидал, что позади его круговою стеной, более, чем в рост человека, вознеслась покатость» (93). Путь назад для Андрия отрезан, и что осталось по ту сторону («позади его»), теряет привилегию быть для героя священным. Сохраняется героическая ситуация совпадения личности с ее «долгом», но уже иным: любовь для Андрия становится такой же «субстанциальной силой действия» (Гегель), какой ранее выступала казацкая доблесть.
Любовь в художественном целом повести осмысливается как «судьба» героя, как до известной степени «готовая» сверхличная сила, диктующая определенный тип поведения. Вспомним жалобы полячки: «Не горькая ли доля пришлась на часть мне? Не лютый ли ты палач мой, моя свирепая судьба? <…> Причаровала мое сердце, мимо лучших витязей земли нашей, к чуждому, к врагу нашему» (105). Андрий также воспринимает любовь как «заданную» ценность, которую прежде нужно заслужить: «Что тебе нужно? чего ты хочешь? прикажи мне! Задай мне службу самую невозможную, какая только есть на свете, – я побегу исполнять ее! Скажи мне сделать то, чего не в силах сделать ни один человек, – я сделаю…» (103). Л.И. Еремина верно замечает, что «Андрий, как сказочный герой, хочет завоевать право на любовь невесты»(10). Существенное же отличие поведения героев сказок и гоголевского персонажа в том, что Андрий сам ставит перед собой задачи, которые он должен решить. Полячка, как уже подчеркивалось, не требует от Андрия измены военному долгу во имя любви к ней.
Далее мы попытаемся интерпретировать один из самых сложных моментов поэтики этой повести. Насколько нам известно, в предлагаемом ракурсе видения он ранее никогда не анализировался. Речь идет не только об уже рассматривавшемся отречении от одного миропорядка во имя другого, а о какой-то иной иерархии. Прежде чем «славы рыцарской и чести добиваться», необходимо соблюсти некоторое условие, пройти своего рода инициацию, разрушить прежний повседневный уклад: «Пахарь ломал свой плуг, бровари и пивовары кидали свои кади и били бочки, ремесленник и торгаш посылал к чёрту и ремесло и лавку, [280] бил горшки в доме» (47); «всякий приходящий» на Сечь «позабывал и бросал всё, что дотоле его занимало. Он, можно сказать, плевал на все прошедшее…» (65); «лишившись дома и кровли, стал здесь отважен человек» (46). Н.В. Драгомирецкая, исследуя стиль «Тараса Бульбы», в свое время весьма точно назвала его «стилем самоотречений», справедливо утверждая, что при этом «отрезаются невосполнимые пласты жизни»(11). Однако и в «отречении» Андрия также можно усмотреть действие того же самого эстетического принципа: «У меня три хутора, половина табунов отцовских – мои, всё, что принесла отцу мать моя, что даже от него скрывает она, – всё мое. Такого ни у кого нет теперь у козаков наших оружия, как у меня: за одну рукоять моей сабли дают мне лучший табун и три тысячи овец. И от всего этого откажусь, кину, брошу, сожгу, затоплю, если только ты вымолвишь одно слово…» (103); «Так если ж так, так вот что: нет у меня никого!»; «Скажи всем <…> я с ними буду биться со всеми. Со всеми буду биться!» (134).
В этом же ряду и знаменитое отречение Андрия от «Украйны» как «отчизны»: «Кто сказал, что моя отчизна Украйна? Кто дал мне ее в отчизны? Отчизна есть то, чего ищет душа наша, что милее для нее всего. Отчизна моя – ты» (106). Обратим внимание, прежде всего, что в этом эпизоде наличествуют три концепта: «Украйна» (в качестве земной отчизны: как данность), иная отчизна (как заданность: «чего ищет душа наша») и, наконец, «ты». Что касается «Украйны» (и украинского), то этот концепт находится в очень сложных отношениях к русскому, казацкому, да и польскому. Здесь не место характеризовать эти отношения, но заметим, что недвусмысленно само казачество определяется автором как «широкая, разгульная замашка русской природы», «необыкновенное явление русской силы». И если Андрий – абсолютно в стиле казацких «самоотречений» – отказывается «Украйну» считать своей «отчизной», то он вовсе не отказывается при этом ни от своей «русской природы», ни – тем более – от козацкого самоопределения. Напротив, повествователь подчеркивает, характеризуя речь Андрия – именно в этом эпизоде: «…с каким упругий, несокрушимый козак выражает решимость на дело неслыханное и невозможное для другого» (106).
Легко, разумеется, возразить на это, что место «отчизны» (то, «чего ищет душа наша») неправомерно занимает у обольстившегося Андрия всего лишь «ты»: прельстившая его женщина, а ведь по «классическому» определению Тараса Бульбы, «козак не на то, чтобы возиться с бабами» (43). Однако же мы выше уже обращали внимание на исключительно высокие коннотации, сопровождающие авторское описание именно этой женщины, этого «ты». Андрий же замечает: «Вижу, что ты иное творение Бога, нежели все мы, и далеки пред тобою все другие боярские жены и дочери-девы. Мы не годимся быть твоими рабами; только небесные ангелы могут служить тебе» (103). Целует свою возлюбленную Андрий «полный не на земле вкушаемых чувств» (126). В свете этого слова героя – «чего ищет душа наша» – вовсе не снижаются последующим его «неслыханным» утверждением: «Отчизна моя – ты!» Да и клятва Андрия [281] «Если же выйдет уже так, и ничем – ни силой, ни молитвой, ни мужеством – нельзя будет отклонить горькой судьбы <…> разве уже мертвого меня разлучат с тобою» (106) до конца исполняется им: «…видно было, как тихо шевелились уста его и как он произносил чье-то имя; но это не было имя отчизны, или матери, или братьев – это было имя прекрасной полячки. Тарас выстрелил» (144).
Имя возлюбленной Андрия, произносимое им перед казнью, было бы ошибочным, как уже мы попытались показать в предыдущем абзаце, истолковывать сугубо в прозаическом контексте понимания. Первое, что видит Андрий, попав по подземному ходу в осажденную казаками крепость, – монастырскую церковь, где «у одного из алтарей, уставленного высокими подсвечниками и свечами, стоял на коленях священник и тихо молился <…> Он молился о ниспослании чуда: о спасении города, о подкреплении падающего духа, о ниспослании терпения, об удалении искусителя, нашептывающего ропот и малодушный, робкий плач на земные несчастия» (96). Нельзя не заметить, что последующее за этим описание костела разительно отличается, например, от гротескного изображения молитвы Янкеля: «Окно с цветными стеклами, бывшее над алтарем, озарилось розовым румянцем утра, и упали от него на пол голубые, желтые и других цветов кружки света, осветившие внезапно темную церковь. Весь алтарь в своем далеком углублении показался вдруг в сиянии; кадильный дым остановился в воздухе радужно освещенным облаком. Андрий не без изумления глядел из своего темного угла на чудо, произведенное светом. В это время величественный рев органа наполнил вдруг всю церковь. Он становился гуще и гуще, разрастался, перешел в тяжелые ропоты грома и потом вдруг, обратившись в небесную музыку, понесся высоко под сводами своими поющими звуками, напоминавшими тонкие девичьи голоса, и потом опять обратился он в густой рев и гром и затих. И долго еще громовые ропоты носились, дрожа, под сводами, и дивился Андрий с полуоткрытым ртом величественной музыке <…> Заря уже давно румянилась на небе: всё возвещало восхождение солнца» (96-97). Невозможно также игнорировать при понимании гоголевской повести того факта, что во время горестных сетований прекрасной полячки на свою «свирепую судьбу» она дважды обращается к Богородице: «За что же ты, пречистая Божья Матерь, за какие грехи, за какие тяжкие преступления так неумолимо и беспощадно гонишь меня?» (105). Однако в тексте Богородица в первый раз упоминается – в другом контексте – также в горестном эпизоде прощания (как оказывается – навеки) матери с Остапом и Андрием: «Мать <…> вынула две небольшие иконы, надела им, рыдая, на шею. “Пусть хранит вас… Божья Матерь…”» (52). Это общее обращение к Богоматери (как и героизация противника, а не только самих казаков) позволяет нам считать вполне соответствующим спектру адекватных истолкований повести (наряду с другими истолкованиями) и высказанное относительно недавно предположение, что «в избытке авторского видения» (М.М. Бахтин) изображается братоубийственная война (12). [282]
Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), проект 15-34-11091
Примечания
2. Гоголь Н.В. Полн. собр. соч.: в 14 т. М.; Л., 1937. Т. 2. С. 118. В дальнейшем после цитаты указываем только № стр. Курсив всюду наш. – И.Е.
3. Виролайнен М.Н. К вопросу об эстетике Гоголя (1830-1836) // Studia Slavica Hungarica. XXIII. Budapest, 1977. C. 373.
4. Федоров В.В. О природе поэтической реальности. М., 1984. С. 133.
5. Там же. С. 131, 126.
6. Гегель Г.В.Ф. Эстетика: в 4 т. М., 1971. Т. 3. С. 607.
7. Слюсарь А.А. Герои и ситуации в «Тарасе Бульбе» Н.В. Гоголя и «Хаджи-Мурате» Л.Н. Толстого // Вопросы литературы народов СССР. Киев; Одесса, 1981. Вып. 7. С. 69.
8. Гегель Г.В.Ф. Цит. соч. С. 63.
9. Там же. С. 449.
10. Еремина Л.И. Н.В. Гоголь // Русская литература и фольклор (первая половина XIX века). Л., 1976. С. 275.
11. Драгомирецкая Н.В. Стилевая иерархия как принцип формы: Н.В. Гоголь // Смена литературных стилей. М., 1974. С. 275, 274.
12. См. комментарий В.А. Воропаева и И.А. Виноградова в изд.: Гоголь Н.В. Собр. соч.: в 9 т. М., 1994. Т. 1-2. С. 445, 475-476.
[283]
Статья опубликована в сборнике: Творчество Н.В. Гоголя и европейская культура: Пятнадцатые Гоголевские чтения. М., Новосибирск: Новосиб. изд. дом, 2016. — 320 с. С. 275-283.
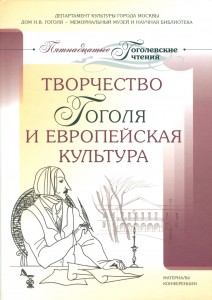
* Доклад прочитан на выездной сессии XV международных Гоголевских чтений (Вена, 26 марта 2015 г.)

One Comment
Как красиво. И какая грусть. Спасибо.