ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РОЛИ ЖЕНЩИНЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ ТОЛСТОГО В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ «ТОЛЕРАНТНОСТИ»
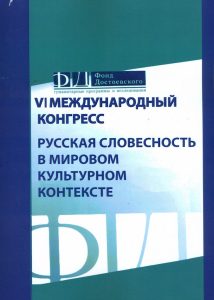
Поскольку понятие «толерантности» используется порой чрезвычайно нестрого, напомню первую часть определения «толерантности», не только зафиксированную уставом Организации Объединенных Наций, но и оставившее след даже и в российской «Википедии»: «право всех индивидов гражданского общества быть различными, уважение к разнообразию различных мировых культур, цивилизаций и народов» (1).
Для ряда исследователей «толерантность» является синонимом «терпимости» (согласно словарю Даля, терпимость – это способность что-либо терпеть по милосердию или снисхождению (2)), другие же подчеркивают «пассивность» терпимости и активность «толерантности». Можно сказать, что «толерантность» — это готовность принимать поведение и убеждения, которые отличаются от собственных, даже если вы не соглашаетесь или не одобряете их.
Частью «толерантности» при этом считается безусловное гендерное равноправие. К этому моменту мы еще вернемся в дальнейшем.
Проблема здесь состоит в том, что по факту получается так: адепты [66] «толерантности», иными словами, сторонники «готовности принимать поведение и убеждения, которые отличаются от их собственных», зачастую сами весьма и весьма агрессивны. Агрессивны по отношению к тем, кто их представления о «толерантности» склонен либо не принимать, либо же иронизировать над этими представлениями.
В свое время А.И. Солженицын справедливо указал на одну ошибку советской власти по отношению к русской классической литературе. Конечно, в советскую эпоху неуклонно конвоировали эту литературу, обрезали ее собственные смыслы, уродовали, кромсали и навязывали ей свое идеологическое содержание. Но… все этого было недостаточно радикально. А нужно было – для успешного коммунистического строительства – просто-напросто запретить русскую литературу. Ибо, с известной точки зрения, литература эта – в своих глубинах — реакционна, великодержавна и консервативна. Поэтому, хотя она в принципе и может быть использована – в каких-то дозах и под конвоем – для особых целей, но на всякий случай было лучше бы все-таки ее запретить.
Правда, и сам Александр Исаевич также не всегда был доволен русской литературой. Например, рассуждая о бесчисленных нытиках, «лишних людях» и прочих бесконечно рефлексирующих героях, он однажды заметил, что, мол, читая ее, порой непонятно – «на чем же стояла Россия, кем держалась», ибо в ней почти совсем отсутствуют вполне позитивные герои, активные деятели. В свое время я рассматривал эту претензию Солженицына (3), поэтому в рамках этой работы не буду останавливаться на интерпретации подмеченной им «особенности».
И, наконец, совсем недавно из британской газеты «Гардиан», мы узнали, что россияне читают классику из страха перед Путиным, что в России почти не читают современных авторов, всецело отдавая предпочтение классической литературе (4). Ориентируясь на результаты опроса «Левада-Центра» о наиболее читаемых авторах, обозреватель «Гардиан» делает вывод, что единодушная любовь к классике объясняется влиянием образования, которое заставило россиян в выборе книг полагаться на «одобренное властями» мнение. Именно поэтому современные российские авторы, чья точка зрения расходится с официальной, в список не попали. «…Когда россиян попросили назвать великих российских писателей, все единодушно – и вполне предсказуемо – обратились к классике, обеспечив первенство в литературном списке лучших Толстому, Достоевскому и Пушкину». Действительно, странно… «…Неужели это лучшее, что есть в русской литературе?» — задается вопросом наблюдатель. Неудивительно и то, что список получился «почти исключительно мужским: в нем едва ли найдется несколько женских имен. Неужели труды современных авторов или русских писательниц не стоят прочтения?» — ставит перед своими читателями еще один риторический вопрос британская газета.
Всё это, впрочем, вполне ожидаемо и прогнозируемо. Если историческая Россия еще хуже, чем даже тоталитарный Советский Союз, как постфактум [67] «оправдывали» свое безоглядное «очарование» российской революцией западные интеллектуалы, то стоит ли обольщаться русской культурой? Я полагаю, что пора, давно пора сделать следующий шаг и объявить, наконец-то, что сама эта хваленая русская литература (особенно же – классическая) весьма и весьма сомнительна (за отдельными исключениями) — с позиций доминирующих в нашем «малом времени» представлений о «правильном» и «неправильном».
Русская классическая литература – «неправильная», она основывается на устаревших (воистину реакционных) принципах, а поскольку она все еще влиятельна, люди ее, как фиксирует и «Левада-Центр», к сожалению, всё еще читают, то нужно что-то с этим делать: либо запретить совсем, раз этого не догадалась сделать прогрессивная советская власть, либо же трансформировать, — например, в театральных постановках – таким образом, чтобы выветрить из нее именно этот реакционный ценностный дух.
Теперь обратимся к Толстому. Всю свою нетолерантную сущность, весь свой мужской шовинизм Толстой сполна – и концентрированно – выразил в известном тексте – «Послесловии» к рассказу Чехова «Душечка».
О чем там пишет Толстой? Что «в рассуждении» Чехова, «когда он писал «Душечку», носилось неясное представление о новой женщине, об ее равноправности с мужчиной, развитой, ученой, самостоятельной, работающей не хуже, если не лучше, мужчины на пользу обществу, о той самой женщине, которая поддерживает женский вопрос, и он, начав писать «Душечку», хотел показать, какою не должна быть женщина. Валак общественного мнения пригласил Чехова проклясть слабую, покоряющуюся, преданную мужчине, неразвитую женщину, и Чехов пошел на гору» (5) .
Как мы все здесь помним, по мысли Толстого, Чехов в итоге-то «благословил то, что хотел проклинать», но ведь, если это так, так это еще хуже! – с позиций современных представлений о роли женщины.
Что пишет Толстой? «Меня трогает и рассказ о том, как она с полным самоотречением любит Кукина и все, что любит Кукин, и так же лесоторговца, и так же ветеринара…» (6).
Толстой как будто говорит о «любви», но его «похвалы» Душечке очень, очень странные: «Автор заставляет ее любить смешного Кукина, ничтожного лесоторговца и неприятного ветеринара, но любовь не менее свята, будет ли ее предметом Кукин, или Спиноза, Паскаль, Шиллер, и будут ли предметы ее сменяться так же быстро, как у «Душечки», или предмет будет один во всю жизнь» (7).
Ну, и наконец: «Без женщин-врачей, телеграфисток, адвокатов, ученых, сочинительниц мы обойдемся, но без матерей, помощниц, подруг, утешительниц, любящих в мужчине все то лучшее, что есть в нем, и незаметным внушением вызывающих и поддерживающих в нем все это лучшее,— без таких женщин плохо было бы [68] жить на свете» (8) . Если это не «мужской шовинизм» («мы обойдемся»), то я тогда не знаю, что такое мужской шовинизм: «плохо было бы жить на свете». Кому это «плохо», что за безличная форма? Конечно же, нам, мужчинам, было бы «плохо жить на свете».
Получается, что предназначение женщины – это любить в мужчине «все лучшее», а будет ли этот мужчина «смешным Кукиным», или «ничтожным лесоторговцем», или «неприятным ветеринаром» — это неважно. Если же женщина не способна (или, может быть, не хочет) любить Кукина, лесоторговца или ветеринара – так любить, как будто перед ней Спиноза, Паскаль или Шиллер, то Кукин с ветеринаром могут сослаться на Льва Николаевича Толстого – и предъявить такие претензии этим негодным женщинам (этим ученым или сочинительницам, уж не говоря об адвокатах), что мало им не покажется.
При этом, надо сказать, Лев Толстой очень, очень восхищается «делом любви», как он это формулирует, однако нет никаких намеков не то что на «толерантность», но и даже на «равноправие» с мужчиной (о чем в начале Послесловия к чеховскому рассказу говорится особо).
Да, Толстой подчеркивает: «В любви, обращена ли она к Кукину, или к Христу, главная, великая, ничем не заменимая сила женщины» (9). Вообще-то, в христианском поле понимания, слова, в общем, правильные – в том смысле, что и в Кукине любящая женщина может увидеть не только «ничтожность», но и личность, а значит, и лик. Он ведь в каком-то поврежденном виде, но имеется же и у Кукина, раз он человек, не правда ли?
Но насколько эта установка согласуется как раз с современными установками (доминирующими сегодня): без любящих женщин «не было бы Марии и Магдалины у Христа, не было бы Клары у Франциска Ассизского, не было бы на каторге жен декабристов, не было бы у духоборов их жен, которые не удерживали мужей, а поддерживали их в их мученичестве за правду, не было бы тысяч и тысяч безызвестных… женщин, утешительниц пьяных, слабых, развратных людей, тех, для которых нужнее, чем кому-нибудь, утешения любви» (10).
И, наконец, Толстой прямо формулирует, насмехаясь над «женским вопросом» и называя его «пошлостью»: «дело женщины по самому ее назначению другое, чем дело мужчины. И потому и идеал совершенства женщины не может быть тот же, как идеал совершенства мужчины… А между тем к достижению этого мужского идеала направлена теперь вся та смешная и недобрая деятельность модного женского движения, которое теперь так путает женщин» (11).
Однако по приводимым мною примерам уже видно, что «дело женщины» — хотя и очень высокое, незаместимое, по Толстому, — это помогать мужчине, скажем, быть утешительницей и «пьяных, слабых, развратных людей», потому что, ведь, и [69] для них нужны же «утешения любви». И получается, что это все-таки объектная, а не субъектная позиция (или, если это субъектность, то какого-то второго ряда).
Как затем формулировал Ролан Барт – демонстрируя лукавство структуралистских бинарных оппозиций, которые подразумевают одно явно доминирующим, а другое – явно в слабой позиции: правое и левое, мужчины и женщины (конечно, первый член бинарной оппозиции (правое, мужчины) нуждается в правом – но второй член оппозиции без левого отдельно просто не мыслим). И именно поэтому Барт объявил фашистом сам язык, ибо в самой корневой системе языка, увы, скрывается гендерное неравноправие. Не в «неправильном» устройстве социума, а, увы, в языке, в структуре языка.
Иными словами, мы никогда не имеем дела с нейтральными денотатами, но всегда с неявными — притом оценочными – коннотациями. Отсюда известный бартовский афоризм: «денотат – это лишь последняя из коннотаций».
Но ведь ту ценностную иерархию, которую мы видим в публицистике Толстого, мы находим, конечно же, и в его поэтическом космосе. Каждый помнит, что в «Войне и мире» есть «пустоцвет» — Соня, а есть любимая толстовская героиня – Наташа Ростова. Что их отличает – прежде всего? То, что Соня пытается всё рассчитать и распланировать (то есть ведет себя, как мужчина), поэтому и терпит в конце концов крах, а Наташа – совершенно непосредственна, она «не удостаивала быть умной» — и в конце концов вполне счастлива – с запачканными пеленками — со своим Пьером Безуховым. А чем наиболее неприятна Элен? Тем, что она еще более расчетлива (то есть имеет еще в большей степени мужской склад ума), нежели Соня.
Те, кто рационально просчитывает возможные следствия из своих поступков, в мире Толстого всегда проигрывают, а те, кто подчиняют себя «живой жизни», всегда описываются с симпатией (Наполеон и Кутузов как примеры), однако если уж рациональность присуща женщине, то уж можно быть уверенным, что никогда такая женщина не только не станет «любимой толстовской героиней», но он все сделает для того, что эта женщина всегда будет антипатична читателю. И разве это – в целом – не является своего рода аксиологией не только Толстого, но и русской литературы как таковой?
При этом произведения Толстого до сих пор прочитываются зачастую в полном противоречии с его же ценностными установками. В «Послесловии» к «Душечке» Толстой подчеркивал, что Чехов – «намеревался проклясть Душечку», но «бог поэзии запретил ему и велел благословить, и он благословил», настаивая, что «подобное очень часто случается с настоящими поэтами-художниками», противопоставляя рациональные авторские «рассуждения» (диктуемые, например, «передовым общественным мнением») и подлинные «чувства», которые и выражаются – помимо «рациональности» автора — в его произведении.
Например, сам Толстой – подобно Чехову – намеревался проклясть «недолжный» социум – в рассказе «После бала», но вышло, что «бог поэзии», очевидно, запретил ему это, и, в конце концов, именно обличитель (и он же рассказчик) Иван Васильевич – и лишился любви – по своей (и только по своей) вине (12) . Однако и в [70] этом тексте Варенька, увы, тоже выступает в роли скорее объекта, чем субъекта.
В заключение я бы хотел поставить проблему: в русской литературе действительно не только «неправильные» представления о роли женщины, но и «неправильные» представления о человеке как таковом. В «Пророке» Пушкина как будто бы речь идет о возможности личного выбора, — это «правильно» и «похвально» для современного мира. Но обратим внимание на то, что герой, если следовать тексту произведения, не успевает «выбрать», поскольку серафим сразу начинает действовать. О самом человеке сказано лишь, что он томим «духовной жаждою», глагол «влачился» также не свидетельствует о собственной активности лирического героя. Но дальше он становится не субъектом выбора, а объектом (хотя в данном случае герой и мужчина, а не женщина).
Иными словами, выходит, что и здесь человек не центральная фигура на пьедестале, который может поступать так или иначе, символ выбора представлен – «перепутье», но серафим (а затем Бог) – не спрашивают вообще-то у человека желал бы он, например, чтобы «угль, пылающий огнем» был у него вместо сердца, а «жало мудрыя змеи» – вместо языка. И слова Бога – в финале – вовсе даже не «толерантны», а более чем императивны: «восстань», «виждь», «внемли», «исполнись волею Моей», «жги».
Как это понимать? Да так, что – невзирая на свою слабость – герой становится не субъектом того или иного выбора, а избранником, избранником Божиим (и эта «объективация» его совершенно не оскорбляет). Не оскорбляет, но не в либерально-постмодернистском, а в христианском контексте понимания. По-видимому, и представления Толстого о роли женщины также не оскорбительны для нее – но не в контексте «толерантности», а в том же самом христианском контексте понимания. [71]
ПРИМЕЧАНИЯ
- Толерантность // Википедия. [Электронный ресурс]. — URL: https: //ru.wikipedia.org/wiki/Толерантность (дата обращения – 05.08.2016).
- Там же.
- См.: Есаулов И. Тоталитарность и соборность: два лика русской культуры // Вопросы литературы. 1992. № 1. С. 148-170.
- См.: http: // www. theguardian. com/books/booksblog/2016/apr/07/the-writers-russians-dont-read-and-you-should
- Толстой Л.Н. Собрание сочинений в 22 томах. М.: Художественная литература, 1983. Т. 15. С. 316. Здесь и далее курсив в цитируемых текстах мой – И.Е.
- Там же.
- Там же. С. 317.
- Там же.
- Там же. С. 317-318.
- Там же. С. 317.
- Там же. С. 318.
- См. подробнее: Есаулов И.А. Пасхальность русской словесности. М.: Кругъ, 2004.
Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), проект № 15-04-00212
Опубликовано: VI Международный конгресс «Русская словесность в мировом культурном контексте». Под общ. ред. И.Л. Волгина. М.: Белый ветер, 2016. С. 66-71.

4 комментария
На мой взгляд, Л. Н. Толстой неверно истолковал образ Ольги в рассказе А. П. Чехова «Душечка». Возможно, его трактовка связана с собственными воззрениями на жизнь и устройство семьи. Как мы помним, роман «Война и мир» заканчивался эпизодами, изображавшими семейное счастье Наташи Ростовой, ставшей женой Пьера Безухова, матерью их общих детей и хранительницей домашнего очага, при этом она очень отдалилась от света и тех правил, которые последний диктует. Некоторые читатели увидели в новой жизни Наташи «3 К», поэтому антифеминистский образ был принят ими в штыки, что привело к многочисленным просьбам переписать эпилог. Однако для Толстого тот мир, который он создал в финале романа-эпопеи был идеалом, гармонией, которую, наконец, должна была обрести героиня.
А. П. Чехов, на мой взгляд, смотрел не только на женщин, но и на людей в целом несколько иначе. Он не предлагал универсального ответа на вопрос «в чем предназначение человека», не искал для социума в целом какой-то общий рецепт для счастья, каждый случай у писателя индивидуален. Оттого он не хотел и не пытался выразить в рассказе «Душечка» взгляд на то, какое место должна занимать в обществе женщина. Здесь представлен отдельный, частный случай. Но даже в этом конкретном случае нет и намека на то, что предстающая перед нами женщина – это «мать», «помощница» или «утешительница». Образ Душечки скорее сопряжен с проблемой самодостаточности. Ольге будто бы скучно наедине с самой собой, ей все время нужен кто-то, чьи идеи и чаяния она могла бы разделить, заразиться ими. Чтобы это подчеркнуть, Чехов использует в рассматриваемом произведении свои излюбленные приемы – повтор и пародирование. Так, Душечка, будто эхо воспроизводит слова каждого нового своего возлюбленного: о театре она говорит, когда увлечена Кукиным, а о заболеваниях животных – когда заинтересована ветеринаром Смирниным. Мне кажется, вопросы, сопряженные с образом Ольги, могут быть актуальны и на сегодняшний день, поскольку в мире немало людей, страдающих от одиночества и постоянно нуждающихся в новых друзьях или любовных приключениях, так как только через такое общение они могут почувствовать интерес к жизни. В связи с этим, чеховский взгляд на главную героиню рассказа «Душечка» и на проблемы, поднятые в этом произведении, мне более близок.
Если это «идеализация», то она не совсем благородная.
Спасибо, Иван Андреевич! статья не только увлекательная, но и злободневная. Поднимаете острые вопросы… Верно очень подметили, что мужчины и составляют в основном историю русской литературы. Ибо больше духовно одарены. У женщин же именно другое назначение. Тут я не могу осуждать Толстого. «Утешительницы» воплощают именно женственное мирочувствие. Хотя и Чехова хочу реабилитировать. Он же и о Мисюсь писал. В этом контексте забавно вспомнить, что в той же русской литературе мужчины-персонажи блекнут на фоне почти идеальных и прекрасных женских типов:) Онегин и Татьяна — классический пример. Тургеневские, гончаровские герои. Даже и шмелевская Даринька и Вейденгаммер. Читательские симпатии зачастую на женской стороне. Интересно, как Вы это объясняете?
Благородной идеализацией женских образов авторами-мужчинами.
Последние записи
Последние комментарии
Архивы