НОВЫЕ РЕЦЕНЗИИ НА «ПОСТСОВЕТСКИЕ МИФОЛОГИИ»
«Обобщающий вывод из содержания всей книги, помещенный на обложке, звучит так: «в книге показано, как именно структуры повседневности постсоветского большинства определяются теми или иными мифологиями, навязываемыми Хозяевами Дискурса» <…>
Усилия самого Есаулова, сосредоточенные в особенности на анализе постсоветских проявлений мифологии, господствующих в современной России, также имеют программно когнитивно-эмансипационный характер. Предпринимая их, он пытается программно разработать и «занять некую „позицию вненаходимости” по отношению к этим структурам (т. е. к постсоветским структурам повседневности. – М. Б.) ради вполне „объективистического” их описания», а предпосылку возможности сделать это усматривает, в частности, в том, что он не принадлежит «ни к одному из сколько-нибудь влиятельных общественно-политических кланов» (с. 5). Вышеупомянутая убежденность сопровождается у него в то же время чувством интеллектуально-общественного одиночества: «последние организованные движения, которым я бы мог вполне сочувствовать, спешно ликвидированы в начале 20-х годов ХХ века» (там же). <…> Как признается Иван Есаулов, каждое свое исследование он рассматривает как «своего рода вызов (или ответ на вызов)» (с. 565). <…> Когда Есаулова спросили, является ли его интеллектуально-исследовательская самоидентификация филологической или философской, он ответил, на мой взгляд, точно и обоснованно: «я себя считаю филологом, но саму филологию понимаю, может быть, шире, чем принято» (с. 565). Очень высокой оценки заслуживают проявленные в книге эрудиция и содержательная компетентность Автора в области великой русской литературы и ее исторических и современных исследований, аналитических разработок и интерпретаций. <…>
Не со всеми констатациями, мнениями и интерпретациями Автора следует, конечно, обязательно соглашаться. Предпринятые Иваном Есауловым исследовательские усилия и результаты их реализации вызывают признание и уважение прежде всего с точки зрения их несомненных эвристических достоинств: они обращают внимание на важные, зачастую не замечаемые или маргинализируемые, отодвигаемые за рамки общественного сознания проблемы и вопросы. Они несомненно дают (могут и должны давать) пищу для размышления, побуждая читателя к углубленной рефлексии и поиску собственных объяснений и решений затрагиваемых интеллектуальных и социальных проблем, действительно важных и актуальных. Поэтому не будет случайным, если я, вернувшись к уже ранее проводившемуся мной анализу Пушкинской речи Достоевского или связи мысли Тютчева с русской имперской традицией, почувствую себя интеллектуально обязанным сделать книгу Есаулова одной из своих важнейших исследовательских точек опоры. Более того, именно знакомство со многими представленными в ней содержаниями склоняет меня к этому возвращению и будущей дискуссии с ними, рассматривая их как интеллектуальный вызов, одновременно нелегкий, вдохновляющий и необходимый».
Marian Broda (Лодзинский университет)
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica. 2016. № 9 [17]. P. 159-163.
Полностью рецензию можно прочесть ЗДЕСЬ
 «Доктор филол. наук И.А. Есаулов (Лит. ин-т им. А.М. Горького) рассматривает проблему соотношения русской, советской и постсоветской культуры в новой книге, состоящей из двух частей: «Мифологии повседневности: Форматирование постсоветского дискурса» и «Аксиология русской культуры: Статьи, интервью, полемика». Основу книги составили блоговские заметки, которые с 1 января 2012 г. регулярно размещались на портале http://esaulov.net. Реферируется вторая часть исследования.
«Доктор филол. наук И.А. Есаулов (Лит. ин-т им. А.М. Горького) рассматривает проблему соотношения русской, советской и постсоветской культуры в новой книге, состоящей из двух частей: «Мифологии повседневности: Форматирование постсоветского дискурса» и «Аксиология русской культуры: Статьи, интервью, полемика». Основу книги составили блоговские заметки, которые с 1 января 2012 г. регулярно размещались на портале http://esaulov.net. Реферируется вторая часть исследования.
Задаваясь вопросом: «Корректно ли творчество Гоголя рассматривать в историческом контексте общественной мысли его времени?», – автор приходит к выводу, что исследуемый исторический фон современной писателю эпохи, безусловно, помогает изучению творчества Гоголя, но не всегда его пониманию, ибо в контекст общественной мысли того времени творчество Гоголя «совершенно не укладывается». Иначе бы «Выбранные места из переписки с друзьями», например, «не получили почти единодушного осуждения – среди “западников” и “славянофилов”, “прогрессистов” и “охранителей”» (с. 372). Изучение «малого времени» (М.М. Бахтин) (к которому можно отнести и «общественную жизнь» современников Гоголя) является только лишь одним из возможных контекстов понимания. И.А. Есаулов полагает, что уместно выделить особый контекст понимания Гоголя, «проистекающий из духовного поля Slavia Orthodoxa»[1] (термин итальянского слависта Рикардо Пиккио), предполагающий использование особой категории филологии – пасхальности[2] (термин И.А. Есаулова).
Гоголевская тема продолжена в статье «Рецепция Гоголя и вектор развития России». В финале «Мертвых душ» происходит «пасхальное чудо воскресения “мертвого душою” центрального персонажа гоголевской поэмы. Его нельзя “позитивистски” объяснить, ибо остается непроясненность тайны, но можно понять, однако такое понимание … сопряжено с верой в чудо воскресения. Финальное вознесение Чичикова возможно так же, как и воскресение русского народа» (с. 378). Структура «Мертвых душ» и структура «Выбранных мест из переписки с друзьями» имеет пасхальную основу, которая определяет и их поэтику. В этом ключе понимается исследователем и финал «Ревизора», когда – подлинный Ревизор – должен явиться в душе зрителей уже после того, как занавес опустился. Явление этого Ревизора призвано способствовать духовному воскресению зрителей гоголевской пьесы – после их «окаменения» вместе с героями произведения. И.А. Есаулов усматривает совершенно определенный вектор движения и России-Руси в целом: от смерти – к воскресению. Всеми своими главными произведениями Гоголь «словно бы предугадал Гибель той реальности, которую мы и называем Россией»; «не приблизил своими произведениями эту Смерть, как полагал Розанов, но угадал ее приближение» (с. 381). Однако, одновременно с этим присутствует и грядущее пасхальное воскресение России, и этот вектор движения, по мысли исследователя, также задан самой структурой гоголевских текстов.
В статье «Контексты понимания художественного мира С.Т. Аксакова: поле возможностей» И.А. Есаулов обращается к некоторым «историческим вехам», в которых можно увидеть своего рода материализацию различных контекстов понимания писателя. Такими вехами в статье выступают авторитетные профессиональные издания, энциклопедии и словари, анализируются статьи об Аксакове в «Литературной энциклопедии» (1929), «Краткой литературной энциклопедии» (1962) и биографическом словаре «Русские писатели» (1989). Та Россия, которая изображается в «Семейной хронике» и в «Детских годах Багрова-внука», это не только Россия крепостническая, царская, конца 18 века, и даже не только Россия Аксакова, но «Россия как таковая, Россия как родина», – заключает исследователь.
В статье «Пушкинская речь Ивана Шмелёва: Новый контекст понимания» И.А. Есаулов полемизирует со своими предшественниками, изучавшими публицистику писателя. Он интерпретирует первый тезис речи Шмелёва, в котором присутствует его полное согласие с Достоевским. Это — «Божия Правда», которая, по мысли Шмелёва, является не только индивидуальной особенностью Пушкина, но столбовой дорогой русской литературы, и шире – русской культуры как таковой. По убеждению И.А. Есаулова, «“Правда русского народа”, она же “Божия правда”, она же правда, “принятая нами от купели” Православия, – именно это главное в Пушкине… стало ясно русским изгнанникам. Стало ясно, в частности, потому что на их родине была насильственно прервана почти тысячелетняя русская история; этого, разумеется, не мог и помыслить Достоевский» (с. 393). В другой статье – «Творчество А.П. Чехова» (1945) – Шмелёв заметил, что русская литература вышла вовсе не из «Шинели» Гоголя, а «из духовной сущности русского народа, из томлений его по “правде Божией” на земле, из его веры в эту правду, из его исканий»; «особенность русской культуры – в ее истоке», она – «запечатленная» печатью тысячелетий: крещением в православие; «этим и определилась духовная сущность русского народа, его истории и просвещения»[3]. Но для русских беженцев и это стало совершенной очевидностью.
Новые смыслы речи Шмелёва могут быть выявлены, если за внешним различием его слов и слов Достоевского о Пушкине мы увидим их внутреннее духовное родство (с. 395). Логика многих постсоветских изданий – это попросту логика «левого мифа». «Ментальная несовместимость неизбежно приводит и к противоположным по смыслу результатам в любой …конкретной литературоведческой интерпретации, когда то или иное явление оценивается диаметрально противоположным образом. Историческая Россия – при всем ее несовершенстве – базировалась на одних аксиомах, а вот СССР – на совершенно других аксиомах» (с. 397). В зависимости от аксиологических установок читателя само понимание шмелёвского текста может быть тем или иным.
В статье «Был у вас Арзамас / Был у нас ОПОЯЗ»: О некоторых аспектах советского освоения русской классики» И.А. Есаулов прослеживает каким образом русская традиция была трансформирована в советские годы. История освоения ОПОЯЗом литературного наследия «Арзамаса» истолковывается как частный, хотя и важный, пример общего процесса вытеснения одной культуры (русской) другой – советской. Русская и советская культура, «хотя и имеют некоторые общие моменты, но их доминанты, архетипы все-таки глубоко различны» (с. 420). Исходя из художественной практики «левых» движений, ОПОЯЗ попытался теоретически обосновать отказ от самого понятия «традиция» в изучении литературы. Как писал в программной статье «О литературной эволюции» Ю.Тынянов, «основное понятие старой литературы – “традиция” оказывается неправомерной абстракцией»[4]. Тыняновское словосочетание «борьба и смена» характеризует скорее «революцию», нежели «эволюцию». Отклонение, понимаемое не только как «новаторство», но и как своего рода эстетическая «норма», «диктует негативное отношение к любой “стабильности”, помнящей и уважающей свое собственное культурное прошлое» (с. 421). Представления о художественном творчестве как о перманентных «культурных взрывах» (термин Ю.М. Лотмана) неразрывно связаны с революционной практикой и внеположны христианской традиции в искусстве. С этой точки зрения понятно и негативное отношение к константам национальных, религиозных, культурных традиций.
Однако сама теория и практика «левых» течений свидетельствует о невозможности абсолютного отказа от той или иной преемственности (культурной передачи). «Так, после радикального разрыва с “чужим” культурным прошлым – в нашем случае это, прежде всего, православная культурная традиция, авторы, создающие “свою” художественную культуру, как правило, стремятся обосновать свою “линию” опорой на авторитет предшественников. Такой “опорой” для ОПОЯЗа и стал “Арзамас”» (с. 423). Поэтому за критикой «традиции», по мысли И.А. Есаулова, часто скрывается неприятие в ней «чужого» (зачастую этим «чужим» и является христианская основа европейской культуры) и «неявная претензия на “присвоение” и адаптацию того или иного близкого своим интенциям ее сегмента (будь то революционно-демократическая линия в русском “освободительном” движении или же становление “беспредметности” в мировом искусстве)» (с. 423). В целом, это тенденция интерпретировать маргинальные по отношению к магистральному вектору традиции культурные явления как подлинно новаторские и эпохальные, — и напротив, то, что питается корнями традиции, вытеснять на периферию культуры (там же).
«Генеалогия авангарда» — тема следующей статьи. Для нового искусства начала XX в. провокация и агрессия становятся субстанциальными,, а не случайными и преходящими качествами. Это сущностное ядро авангарда, пишет И.А. Есаулов. Не случайна и особая экспрессивность в неприятии традиции, прошлого. Однако «прошлое» здесь – «это именно христианское прошлое (в данном случае лишь не манифестируемое); “традиция” – это христианская традиция; а проклятие, адресованное “нелепым высшим ценностям” … – это проклятие как раз христианским ценностям» (с. 433). Поэтому так часто встречающийся в поэтике авангарда пафос начала, пафос творения нового космоса как бы взамен существующего – с чистого листа – попытка «переписать» и тем самым как бы отменить библейскую историю, полагает автор статьи. «Объектом насилия (хотя и эстетического) становится сознание читателя. Существенно не то, осуществляется ли оно в действительности при восприятии авангардистского текста, а то, что оно провозглашается в качестве должного, в качестве цели искусства» (с. 436). Авангард, продолжает исследователь, жаждет «приговора» и «казни» миру как объекту (всему тому, что существует вне меня, до меня и после меня) ради обретения полной индивидуальной свободы. В этом аспекте «Черный квадрат» Малевича, принципиально воспроизводимый каждым реципиентом, и «заумь», принципиально невоспроизводимая, «представляют собой не два полюса культуры авангарда, но типологически одно и то же явление: эстетическое умерщвление онтологически понимаемой реальности. Это массовое либо индивидуальное гносеологическое надругательство над осмысленным и данным – от Бога – миром» (с. 437).
«Прочитав, разорви» — этот лозунг А. Кручёных и В. Хлебникова иллюстрирует установку на актуализацию настоящего, но именно такого, которое изначально чревато смертью (уничтожением и самоуничтожением), стремится к смерти и торопит ее.
Русская классика, заключает И.А. Есаулов, гораздо теснее связана с древнерусской литературой, ориентированной на средневековые христианские ценности, чем это порой представляется. Русский романтизм был слишком специфичен и «ослаблен», «чтобы в достаточно серьезной степени взять на себя функции возрожденческого титанизма и фихтеанского дуализма… В итоге авангардистская экспансия в России в альянсе с авангардизмом в политике явилась смертельной инъекцией для традиционной культуры» (с. 443). «Эстетическая провокация» удалась, и далее произошло превращение авангардной культуры в культуру тоталитарную.
Стереотипное представление о «вторичности» искусства соцреализма по отношению к внехудожественной действительности нуждается в некоторой корректировке, полагает И.А. Есаулов в статье «Литература как учебник жизни». Одно из главных нормативных отличий соцреализма от типологически предшествующего этапа («критического реализма») состояло в том, что новая литература не только «отражала» жизнь, но и была призвана ее «направлять». Общеизвестный учительный пафос литературы соцреализма возникает «как результирующая двух факторов, где константа – ударное идеологическое воздействие на сознание реципиента – соседствует с переменными. В этом случае читатель обязан испытать катарсис жизнестроительства, проистекающий из “сотворчества” революционному автору, сокрушающему старые и находящему новые «революционные» формы, единственно созвучные пафосу эпохи… В другом случае тот же катарсис жизнестроительства проистекает из “сопереживания” героям-деятелям, которые должны быть убедительно (“образно”) представлены» (с. 461).
«Учебником жизни» для значительной массы населения России и в начале XX в. оставалось Евангелие и Жития святых. Не случайно поэтому целью задуманной М. Горьким серии «Жизнь замечательных людей» было представить новые «святцы» для жизнестроительства, в которых активизм предлагаемых героев призван был заместить былое смирение их инвариантных житийных аналогов и, тем самым, трансформировать «горизонт ожиданий» читателей. «Традиционно суггестивное доверие к печатному слову было использовано в целях его вторичной сакрализации – в качестве такой ментальной особенности читательской аудитории, которая сможет стать самым надежным фундаментом для работы “инженеров человеческих душ”» (с. 463).
[1] См.: Picchio R. Letteratura della Slavia ortodossa. – Bari, 1991. – Рус. перевод: Пиккио Р. Slavia Orthodoxa: Литература и язык. – М., 2003.
[2] См.: Есаулов И.А. Новые категории филологического анализа для понимания сущности русской литературы // Литературоведческий журнал. – М., 2007. — № 21. – С. 3 – 14.
[3] Шмелёв И.С. Творчество А.П. Чехова // Шмелёв И.С. Собр. соч.: В 5 т. – М., 1999. – Т. 7 (доп.). – С. 543.
[4] Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. – М., 1977. – С. 272.
Т.Г. Петрова
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Реферативный журнал «Литературоведение». М., 2017. № 1. С. 53-59.
В формате PDF реферативный обзор можно прочесть ЗДЕСЬ
 «Прежде всего о жанре книги. Это не научный трактат, не исследовательская работа очеркового характера, а литературное произведение. Прав тот читатель, который усмотрел в монографии Ивана Есаулова самую оригинальная книгу «и по формату, и по содержанию», вышедшую в последнее время. Жанр, к которому она принадлежит, действительно, встречается редко, но зародился он еще в литературе Древнего Египта классического фараоновского периода <…> В книге «Постсоветские мифологии» следует видеть художественное произведение, созданное в соответствии с его жанровой природой как одну из разновидностей эпистолярной формы. <…> Как полемический и сатирический дискурс, книга написана простым языком, понятным любому читателю, но изобилует парадоксами, неологизмами, каскадом неожиданных, но ярких образов и определений, влияющих на читательское восприятие, вызывая эстетическое наслаждение у тех, кто разделяет точку зрения Есаулова на природу вещей, и закономерно недоброжелательное отношение у противной стороны. Обладающая несомненными художественными достоинствами, по литературному уровню не уступая известным образцам русской публицистики, книга И. Есаулова не может остаться свободной от критики <…> При всех своих противоречивых сторонах книга «Постсоветские мифологии» несомненно обратит на себя общее внимание, и займет свое место в истории русской литературы ХХI века как новаторское произведение».
«Прежде всего о жанре книги. Это не научный трактат, не исследовательская работа очеркового характера, а литературное произведение. Прав тот читатель, который усмотрел в монографии Ивана Есаулова самую оригинальная книгу «и по формату, и по содержанию», вышедшую в последнее время. Жанр, к которому она принадлежит, действительно, встречается редко, но зародился он еще в литературе Древнего Египта классического фараоновского периода <…> В книге «Постсоветские мифологии» следует видеть художественное произведение, созданное в соответствии с его жанровой природой как одну из разновидностей эпистолярной формы. <…> Как полемический и сатирический дискурс, книга написана простым языком, понятным любому читателю, но изобилует парадоксами, неологизмами, каскадом неожиданных, но ярких образов и определений, влияющих на читательское восприятие, вызывая эстетическое наслаждение у тех, кто разделяет точку зрения Есаулова на природу вещей, и закономерно недоброжелательное отношение у противной стороны. Обладающая несомненными художественными достоинствами, по литературному уровню не уступая известным образцам русской публицистики, книга И. Есаулова не может остаться свободной от критики <…> При всех своих противоречивых сторонах книга «Постсоветские мифологии» несомненно обратит на себя общее внимание, и займет свое место в истории русской литературы ХХI века как новаторское произведение».
Natalia Arsentieva (University of Granada)
Mundo Eslavo. № 15 (2016). P. 99-103.
Полностью рецензию можно прочесть здесь: 209-222-1-pb1
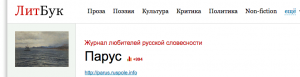 «На эту книгу вышел целый ряд рецензий — от восхищенных и благожелательных, хотя зачастую так или иначе полемичных, до откровенно негативных. Главным образом, внимание рецензентов было сосредоточено на первой, написанной на злобу дня части книги — «Мифологии повседневности: форматирование постсоветского дискурса». Вторая часть — «Аксиология русской культуры: статьи, интервью, полемика» — освещалась гораздо меньше. А именно в ней-то, как представляется, и следует искать ответы на столь отчетливо поставленные в первой части насущные вопросы, пути прорыва из трясины структур повседневности. Характерно, что если в первую часть вошли блоговские заметки за два года, то во вторую — статьи за четверть века — с 1991 года. Контраст между разделами усугубляет и язык — публицистически-заостренный, желчно-ироничный и полный «заимствований» из современного жаргона в первой части, и академический, хотя и не лишенный экспрессии, во второй. И вместе с тем, как представляется, разнообразие форм в «Постсоветских мифологиях…» — концептуально-провокативное введение, блоговские заметки с комментариями, статьи, интервью, фрагменты отзывов и рецензий — не мешает, в конечном счете, единству пафоса и магистральных идей книги.
«На эту книгу вышел целый ряд рецензий — от восхищенных и благожелательных, хотя зачастую так или иначе полемичных, до откровенно негативных. Главным образом, внимание рецензентов было сосредоточено на первой, написанной на злобу дня части книги — «Мифологии повседневности: форматирование постсоветского дискурса». Вторая часть — «Аксиология русской культуры: статьи, интервью, полемика» — освещалась гораздо меньше. А именно в ней-то, как представляется, и следует искать ответы на столь отчетливо поставленные в первой части насущные вопросы, пути прорыва из трясины структур повседневности. Характерно, что если в первую часть вошли блоговские заметки за два года, то во вторую — статьи за четверть века — с 1991 года. Контраст между разделами усугубляет и язык — публицистически-заостренный, желчно-ироничный и полный «заимствований» из современного жаргона в первой части, и академический, хотя и не лишенный экспрессии, во второй. И вместе с тем, как представляется, разнообразие форм в «Постсоветских мифологиях…» — концептуально-провокативное введение, блоговские заметки с комментариями, статьи, интервью, фрагменты отзывов и рецензий — не мешает, в конечном счете, единству пафоса и магистральных идей книги.
«Постсоветские мифологии…» крайне интересны с жанровой и методологической (если не упускать из виду, что даже первая часть книги — попытка научного взгляда) точек зрения. Как прямых своих предшественников в описании мифов И. Есаулов называет Р. Барта и А.Ф. Лосева, и если по форме «Постсоветские мифологии…» больше тяготеют к бартовским «Мифологиям», то по мировоззрению, — безусловно, к Лосеву, к его «Диалектике мифа». <…>
Как представляется, если взглянуть на «Постсоветские мифологии…» безотносительно симпатии или антипатии к личности автора, к принятию или неприятию официальных сегодня доктрин — только потому, что они официальные, — с общим пафосом книги, направленным на освобождение от власти крошки Цахеса, действительное и повсеместное возрождение аксиологии русской культуры, сложно не согласиться. И актуальность, востребованность этой культуры, растущее к ней общественное внимание — как хочется верить — говорит о том, что совсем еще не все сегодня потеряно — и поныне вечные ценности живут не только на бумаге и в памятниках искусства, но и в живой жизни, и в повседневности. И есть еще шанс к возрождению. У всех. Даже у «Хозяев Дискурса»».
Юлия Сытина
Парус. 2017. Вып. 52.
Полностью рецензию можно прочесть ЗДЕСЬ.
P.S. Список всех рецензий (мне известных) можно найти в этом разделе.

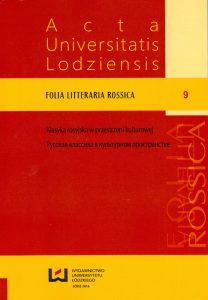
One Comment
Замечательные глубокие рецензии. Книга живет!!