ГЕНЕАЛОГИЯ АВАНГАРДА
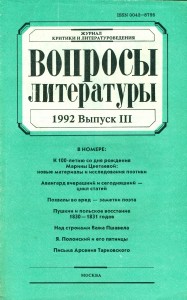
Нам выпало жить в прекрасную антихудожественную эпоху.
Себастьян Гаш, «К упразднению искусства».
И, взяв малыша на руки, стал ласкать его, казалось вовсе не замечая, что злонравный карлик прегадко ворчит и мяукает и даже ловчится укусить достопочтенного господина за нос.
Гофман, «Крошка Цахес».
В задачу настоящей работы не входит сколько-нибудь развернутое описание эстетики авангардного искусства и его влияния на эстетику соцреализма. В последнее время появилось немало исследований, в которых старый миф об антагонизме между авангардом и тоталитаризмом подвергнут аргументированному и убедительному пересмотру (1). Кажется, сегодня заново доказывать тезис об авангардном искусстве начала XX века в России как о законном предшественнике искусства социалистического, подготовившего ему ауру выжженного культурного поля, — значит ломиться в открытые двери. Дискуссионным является, пожалуй, лишь вопрос о степени и глубине воздействия революционных «ниспровергателей» на следующих за ними «строителей» нового общества. [176]
Тем не менее до сих пор имидж авангарда настолько не совпадает с его действительным внутренним содержанием, что поневоле приходит в голову образ гофмановского крошки Цахеса, при помощи могущественной силы обладавшего поразительной способностью приписывать себе принадлежащие другим достоинства и таланты. Несомненно, и в нашем случае существует фрейлейн фон Розеншен, постаравшаяся своими чарами подобный имидж создать и поддерживать — вопреки саморазоблачающему «прегадкому ворчанию» этого enfant terrible нашего столетия. Но несомненно также, что, прислушиваясь к программным заявлениям крупнейших мастеров авангарда, мы замечаем там в каком-то утрированном виде действительно нечто такое, что уже в той или иной степени можно обнаружить у весьма почтенных представителей отнюдь не авангардной культуры. Хотя непосредственное читательское чувство постоянно сопротивляется нашему «узнаванию», как, впрочем, и нашим же интеллектуальным стараниям причесать, подобно гофмановской фее, и облагородить это особого рода искусство «антихудожественной эпохи» (С. Гаш).
Более того, в программных выступлениях теоретиков и практиков авангарда (2) советского читателя может поразить отсутствие всякой принципиальной новизны. Оказывается, проживая в стране, где «Первый манифест футуризма» повторно опубликовали лишь 77 лет спустя после его появления в Италии, мы в своей повседневной жизни постоянно ощущали значимое воздействие его идей (или, по крайней мере, идей очень близких ему). Правда, сложилось так, что идеи эти внедрялись в жизнь другим авангардом — рабочего класса, который оказался отнюдь не менее решительным, нежели его итальянский эстетический собрат.
Вчитаемся: «А вот мы воспеваем наглый напор, горячечный бред, строевой шаг, опасный прыжок, оплеуху и мордобой» (160). Революционный «напор» и «бред» мы видим изначально соединенными — через запятую — со «строевым шагом» как объектом эстетического любования. «Мордобой» же, венчающий этот аксиологический ряд, тоже весьма симптоматичен. Российский «буревестник революции» (и одновременно ницшеанец), с удовольствием констатирующий перед смертью налаженную и четкую организацию труда и быта на Беломорканале, [177] его романтические «начала» и социалистические «концы» вполне вписываются в совершенно чуждый, казалось бы, основоположнику соцреализма авангардистский контекст.
И далее все узнаваемо для советского читателя: все родное, привычное и как бы переписанное со страниц отрывного календаря. «Нет ничего прекраснее борьбы… Поэзия наголову разобьет темные силы и подчинит их человеку» (160). Отчего же «Манифест» не был включен ни в одну советскую хрестоматию? Маринетти честнее и определеннее наших отечественных профессиональных борцов с темными силами. Поэтому соединительным звеном между двумя фразами, разорванными нами многоточием, является третья: «Без наглости нет шедевров» (160).
Основоположник итальянского футуризма эксплицирует то, что в теориях апологетов «борьбы» содержится, как правило, лишь имплицитно. В частности: «Давайте-ка саданем хорошенько по вратам жизни, пусть повылетают напрочь все крючки и засовы!.. Вперед!..» (159). «Мы вдребезги разнесем все музеи, библиотеки. Долой мораль, трусливых соглашателей и подлых обывателей» (160).
Надо сказать, все пункты программы в пределах нашей страны были успешно реализованы. Затем же, исполнив свою миссию разрушения, отечественные авангардисты-практики, воспевавшие «высокие Идеалы уничтожения всего и вся» (160), совершенно закономерным образом уничтожены были и сами. Поразительно, но неистовый Маринетти очень трезво (хотя и императивно) предсказал грядущее: «Нам стукнет сорок, и тогда молодые и сильные пусть выбросят нас на свалку как ненужную рухлядь!.. И чем сильнее будет их любовь и восхищение нами, тем с большей ненавистью они будут рвать нас на куски» (162). А. Крученых и В. Хлебников в манифесте «Слово как таковое» характеризуют как новизну своей поэзии («будетлянеречетворцы разрубленными словами, полусловами и их причудливыми хитрыми сочетаниями»(3) ), так и направляют практическое действие своих потенциальных реципиентов: «Прочитав, разорви!» (4)
Дефиниция искусства авангарда, предложенная Маринетти («Искусство — это и есть насилие, жестокость и несправедливость» — 160), — лишь наиболее «дистиллированное», как сказал бы Сальвадор Дали, выражение общеродовой и типологической устремленности авангарда, [178] агрессивной и провокационной по отношению к традиционному искусству в целом, а не только к ближайшему по времени тому или иному художественному течению. Плевок, ставший эстетическим жестом у Маринетти: «Раз и навсегда плюнем на Алтарь Искусства» (подчеркнуто автором. — И. Е.; 167), затем явится общим семиотическим кодом нового отношения к традиции. Например, глава «новечентизма» М. Бонтемпелли и спустя почти двадцать лет после появления «Манифеста футуризма» утверждает, что «единственное средство «возродить традицию» — наплевать на нее» (181).
Российская «Пощечина общественному вкусу», где провокация и агрессия хорошо дополняют друг друга, подтверждается «Советами» того же Бонтемпелли: «Если ты видишь, что написанное тобой — не что иное, как пощечина самым маститым Критикам, — все в порядке» (181).
По мнению А. Флакера, «эстетическую провокацию выдвинул Крученых в принцип своего творчества» (5). Такая характеристика поэтической доминанты одного из ведущих российских футуристов вполне может быть экстраполирована на весь авангард — не только русский, но и европейский. Для нового искусства, угрожающего плевками и пощечинами, провокация и агрессия неизбежно становятся субстанциальными, а вовсе не случайными и преходящими качествами. Это сущностное ядро авангарда. Совершенно закономерно, что подобное видение мира пропитывает и дружеский круг самих авангардистов-единомышленников. По определению Даниила Хармса,
Вот сборище друзей, оставленных судьбою:
Противно каждому другого слушать речь;
Не прыгнуть больше вверх, не стать самим собою,
Насмешкой колкою не скинуть скуки с плеч.
Давно оставлен спор, ненужная беседа
Сама заглохла вдруг, и молча каждый взор
Презреньем полн, копьем летит в соседа,
Сбивая слово с уст. И молкнет разговор.
(«Постоянство веселия и грязи»)
Не случайна и особая экспрессивность в неприятии традиции. Характерно признание Бонтемпелли: «Хотел бы я знать имя того горемыки, который … первым бросил клич «возродим традицию»… Его надо было немедленно схватить, высечь при всем народе да вздернуть без суда и следствия» (180). Подсознательно деятели авангарда, [179] по-видимому, понимают, что явно проигрывают большинству подвергаемым ими обструкции художникам в эстетической одаренности. Традиционное «поэтическое состязание» — как раз за Алтарем Искусства — для них неприемлемо, ведь это состязание талантов. За истеричностью и скандальностью их заявлений зачастую скрывается глубокая человеческая обида — обида на Бога, который несправедливо обделил их поэтическим даром, данным другим. Авангард — это культура аутсайдеров, культура маргиналов, не выдержавших традиционный (что поделаешь!) тест на одаренность. Как сравнительно недавно заметил Лев Лосев: «После многих лет приглядывания к литературному авангарду я понял его главный секрет: авангардисты — это те, кто не умеет писать интересно. Чуя за собой этот недостаток и понимая, что никакими манифестами и теоретизированиями читателя, которому скучно, не заставишь поверить, что ему интересно, авангардисты прибегают к трюкам» (6).
Глава «новечентизма», указывая на принципиальное отличие авангарда от традиционного искусства, четко очерчивает контуры того прошлого, которое, как он полагает, сгорело «в пламени огромного предвоенного костра» (173). Это эпоха «от Христа до Русского Балета» (173), ибо завершается «поэзия, берущая начало с Нагорной проповеди» (173). Однако Бонтемпелли слишком неточно определяет эпоху как «романтическую». Гораздо точнее было бы говорить об эпохе христианской культуры. По крайней мере заявление вождя итальянского футуризма — «Мы подготовим появление механического человека в комплекте с запчастями (подчеркнуто автором. — И. Е.). Мы освободим человека от мысли о смерти» (168) — в самом деле знаменует собой рождение культуры, не имеющей и не желающей иметь с христианством ничего общего. «Авангардизм разрушает прошлое» (227), — авторитетно свидетельствует Умберто Эко. Однако, анализируя как теорию, так и художественную практику авангарда, приходишь к выводу, что «прошлое» здесь — это именно христианское прошлое (в данном случае лишь не манифестируемое); «традиция» — это христианская традиция; а проклятие, адресованное «нелепым «высшим ценностям»» (243), — это проклятие как раз христианским ценностям.
Провозглашаемая Г. де Торре «твердая, убеждающая вера в гордыню» (237), точно в такой же степени, как и лозунг «Провозгласим же ЯЧЕСТВО — вершину, куда стремятся [180] все пути авангарда!» (240), позволяет говорить не только о кричащей устами испанского «авангардиста № 1» (по определению X. Гильена) энтропии двухтысячелетней христианской цивилизации, но и об энтропии культуры в целом. Поэтому так часто встречающийся в поэтике авангарда пафос начала, пафос творения нового космоса как бы взамен существующего — с чистого листа — попытка «переписать» и тем самым как бы отменить библейскую историю. Точка же отсчета может быть любой — для поэта-демиурга. Например, первомайская демонстрация на Востоке:
Снова мы первые дни человечества!
Адам за адамом проходят толпой.
(В. Хлебников, «Новруз труда».)
Говоря о модернистских картинах, Г-Г. Гадамер проницательно заметил: «В языке таких картин заключено, похоже, не столько высказывание, сколько отторжение смысла» . В конце концов, вчитываясь в бесчисленные манифесты авангардного искусства, можно понять, что декларация цитированного выше лидера ультраизма — «Заявим прямо о том, что мы дикари» (243) — не столько декларация, сколько взвешенное определение (самоопределение), точная констатация и диагноз уже свершившегося в недрах авангардной культуры факта. Замечательно стихотворение В. Хлебникова с характерным названием «Признание» и подзаголовком «Корявый слог», где эксплицируется сам момент перехода на новый язык — советский и особая гордость, связанная с этим событием:
Вэ-Вэ, Маяковский! — Я и ты,
Нас как сказать по-советски,
Вымолвить вместе в одном барахле?..
Скажи откровенно:
Хам (подчеркнуто В. Хлебниковым. — И. Е.)
Будем гордиться вдвоем
Строгого звука судьбой…
Мы гордо ответим
Песней сумасшедшей
В лоб небесам.
Совершенно закономерным поэтому представляется провозглашаемый авангардистами отказ от языка и — шире — отказ от слова как такового. Как формулирует X. Балль, один из основателей дадаизма, «я читаю стихи, [181] которые ставят перед собой целью ни много ни мало, как отказ от языка» (317). На первый взгляд мы имеем дело лишь с продолжением общего отказа от прошлого. «Я не хочу слов, которые изобретены другими, — продолжает свою мысль X. Балль. — Все слова изобретены другими. Я хочу совершать свои собственные безумные поступки, хочу иметь для этого соответствующие гласные и согласные» (317). Спустя несколько десятилетий Р. Барт подробно разработает мысль о неизбежной принудительности и тем самым тоталитарности языка, назвав последнего «фашистом», которого можно лишь «обмануть» . Однако немецкий писатель все же радикальнее главы французского структурализма: он не желает хитрить с языком и «обманывать» его. X. Балль надеется вовсе обойтись без языка: «Я просто произвожу звуки… Стих — это повод по возможности обойтись без слов и языка» (317). Аннигиляция слова («по возможности»), как показывает на материале советского периода Вл. Паперный, — нечто большее, нежели простой отказ от «культуры прошлого»: «Культура 1 особенно непримирима к литературности и к слову (подчеркнуто автором. — И.Е.). В живописи борьбу со словом ведут Кандинский и Малевич. В театре — Мейерхольд и Таиров… В христианской традиции за Словом стоит «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог»… Поэтому борьбу Культуры 1 со словом можно рассматривать в одном ряду с другими ее антихристианскими акциями — разрушением церквей, икон, снятием крестов, вскрытием мощей и т. д. … Борьба Культуры 1 со Словом — это еще борьба с Порядком во имя Хаоса. И поэтому борьбу Культуры 1 со Словом следует рассматривать в одном ряду с другими ее энтропийными устремлениями» (9). И.Р. Шафаревич, проанализировав различные разновидности социализма, приходит, по сути дела, к аналогичному выводу, говоря об идее смерти как конечной цели социализма (10). «Энтропийные устремления» культуры авангарда — это в самом прямом, а отнюдь не метафорическом смысле часть общего движения к Смерти, «стремления человечества к самоуничтожению, к Ничто»(11). Кажущиеся противоестественными столь активные поиски смерти у Маринетти («И как молодые львы, мы [182] кинулись вдогонку за смертью… Пусть проглотит нас неизвестность» — 159) на самом деле вполне вписываются в вышеназванное направление движения, составляя его стержень. Достаточно сравнить их, например, с радостным энтузиазмом от осознания близкой гибели, звучащим в строках всем знакомой песни: «И, как один, умрем».
Любопытно, что омертвление реальности проникает в первую же фразу «Первого манифеста футуризма»: «Всю ночь просидели мы с друзьями при электрическом свете» (158). Манифестируемая автором особенность «ночных бдений» одержимых новизной энтузиастов — электрическое освещение — повторяется и в следующем предложении, в котором упоминается об «электрических сердцах» (158) ламп.
Столь настойчивая акцентуация невольно заставляет вспомнить о мифологии электрического света, блестяще раскрытой А.Ф. Лосевым: «Свет электрических лампочек есть мертвый, механический свет (смерть и «механический человек» Маринетти, стало быть, незримо соединяются уже с первой фразы «Манифеста». — И. Е.)… В нем нет благодати, а есть хамское самодовольство полузнания. В нем есть безразличие всего ко всему, вечная и неизменная плоскость… Это … жалкие потуги плохо одаренного самоучки стать гением и светочем жизни (как точно! И Маринетти как бы соглашается с русским философом: «мы все сидели и сидели… мололи всякий вздор да марали бумагу» (158). — И.Е.)… Это, может быть, та бесовская сила, про которую сказано, что она — скучища пренеприличная. Не страшно и не гадливо при электрическом свете, а просто банально и скучно. Скука — вот подлинная сущность электрического света… Нельзя любить при электрическом свете; при нем можно только высматривать жертву»(12). Последнее предположение А.Ф. Лосева, если вспомнить эстетизирование «оплеухи и мордобоя», порожденное электрической ночью, вполне уместно. Впрочем, первые «враги», которых обнаруживают энтузиасты электрических сердец, это как раз природные антагонисты ламп — звезды: «Мы были один на один против целого полчища звезд, все это были наши враги…» (158). Непосредственная же «жертва» — это реципиент нового искусства. И вновь убедителен Маринетти: «Иногда надо, чтобы несколько образов подряд прошивали сознание читателя как мощная пулеметная очередь» (165). Объектом насилия (хотя и эстетического) становится сознание читателя. [183] Существенно не то, осуществляется ли оно в действительности — при восприятии авангардистского текста, а то, что оно провозглашается в качестве должного, в качестве цели искусства.
В основе провокации и агрессии авангардизма лежит как бы обида на то, что мир уже сотворен; «язык» с его «гласными» и «согласными» уже есть; человеческая жизнь протекает в ноосфере осмысленного бытия. Характерно определение Даниилом Хармсом «своего другого», пользуясь терминологией М.М. Бахтина, — Н. Олейникова, одного из ведущих обэриутов:
Кондуктор чисел, дружбы злой насмешник,
О чем задумался? Иль вновь порочишь мир?
Гомер тебе пошляк, и Гете — глупый грешник…
(«Олейникову»)
В конечном итоге это восстание против сотворенной и осмысленной жизни. Иначе говоря, попытка окончательного и последнего освобождения от объективной реальности, стремление при помощи «внутреннего мира» индивидуума вырваться из объятий мира «внешнего». Можно сказать, это попытка раз и навсегда избавиться от всякой онтологичности бытия, заменив ее самодовлеющей гносеологией эстетического произвола. Авангард жаждет «приговора» и «казни» миру как объекту (всему тому, что существует вне меня, до меня и после меня) ради обретения полной индивидуальной свободы. В этом аспекте «Черный квадрат» Малевича, принципиально воспроизводимый каждым реципиентом, и «заумь», принципиально невоспроизводимая, представляют собой не два полюса культуры авангарда, но типологически одно и то же явление: эстетическое умерщвление онтологически понимаемой реальности. Это массовое либо индивидуальное гносеологическое надругательство над осмысленным и данным — от Бога — миром. Однако во всем этом нова, по-видимому, лишь особая брутальность в утверждении мифологии новой культуры и особая организованность «меньшинства» в постоянно звучащее «мы», весьма напоминающая партийную дисциплину.
Так, в «Воззвании председателей земного шара» В. Хлебников 21 апреля 1917 года констатировал:
Поем и кричим, поем и кричим,
Пьяные прелестью той истины,
Что Правительство земного шара
Уже существует.
Оно — Мы. [184]
Подчеркнутая какофония (дважды повторяется соседство песен и крика), возникающая в результате опьянения «прелестью» новоявленной истины, — лишь промежуточный этап на пути к новому миропорядку. Поэтическая оргия победителей вскоре завершается, и уже в 1922 году тот же автор вместо былой вольницы ориентируется на весьма трезвое отношение «председателей» к окружающему их прозаическому миру:
И, когда председателей земного шара шайка
Будет брошена страшному голоду зеленой коркой,
Каждого правительства существующего гайка
Будет послушна нашей отвертке.
(«Если я обращу человечество в часы»)
Идеолог «новечентизма», пытаясь обнаружить «аналогии» нового подхода к миру, указывает, во-первых, на живопись Кватроченто, а во-вторых, на романтическую эстетику (182-183). Бонтемпелли не стремился детально аргументировать свои «аналогии», это не входило в задачи его «Четырех преамбул». Поэтому нащупанные им генеалогические связи могут показаться слишком произвольными. Не может же быть, чтобы логическим продолжением искусства раннего Ренессанса в Италии с его культом человека стал «механический человек» и «запчасти» к нему!
Но ведь и Возрождение, согласно А.Ф. Лосеву, утвердило такого рода «новое мировоззрение», которое явилось, в известном смысле, «антиподом всей тысячелетней средневековой культуры»(13). Наследие античной эпохи, «возрождаемое» в XIII-XVI веках, использовалось «для титанического возвеличивания человека в окружении по преимуществу эстетически понимаемого бытия» (45).
Так, если для средневекового иконописца «тело было… только носителем духа», то «возрожденец всматривался в человеческое тело как в таковое и погружался в него как в самостоятельную эстетическую данность» (54). Таким образом, «самодостаточная эстетическая значимость» (55) тела, его полное отделение от души, когда «не столь важны были происхождение этого тела, или его судьба, эмпирическая или метафизическая» (54), — это первая в христианскую эпоху ступень на пути эмансипации человека от [185] этических координат и от стоящей за этим души. Бонтемпелли, уверявший, что «мы с легкостью отторгнем материю от духа» (171), потому и мог говорить о легкости подобного разъятия и отторжения, что оно в принципе уже состоялось— задолго до «новечентизма». Осталось лишь завершить начатое.
Сопоставляя манифесты авангардистов и эстетическую устремленность деятелей культуры Возрождения, можно заметить — при очевидной несоизмеримости результатов собственно художественного творчества — наличие едва ли не единой установки. При этом «оборотная сторона титанизма» (А.Ф. Лосев) эпохи Возрождения становится как бы лицевой стороной авангардной культуры, ее витриной и сущностью в одно и то же время.
Уже в ренессансную эпоху «человеческая личность, воспитанная в течение полутора тысяч лет на опыте абсолютной личности, захотела теперь сама быть абсолютом» (289). Мы наблюдаем в начале века лишь финальный аккорд возрожденческой «индивидуалистической ориентации человека, мечтавшего быть совершенно изолированным от всего объективно значимого и признававшего только свои внутренние нужды и потребности» (137). Точно в такой же степени, как «Ренессанс является, в общем, попыткой именно земного человека утвердить именно земное свое существование» (95), авангард весь в настоящем. Ведь даже футуристы не желают знать не только никакой традиции, никакого прошлого, но и, парадоксальным образом отвергая этимологию названия направления, отвергают также всякое будущее. «Прочитав, разорви» — этот лозунг А. Крученых и В. Хлебникова хорошо иллюстрирует установку на актуализацию настоящего, и только настоящего. Но именно такого настоящего, которое изначально чревато смертью (уничтожением и самоуничтожением), стремится к смерти и торопит ее.
Наиболее же существенно, что именно начиная с Возрождения мы имеем «идею абсолютизации человеческого индивидуума, выдвигавшуюся против абсолютизации надмировой божественной личности в средние века» (61). Как раз с этого времени можно говорить о «самодовлеющей власти искусства над прочей жизнью и бытием» (59).
Теоретики Возрождения, несмотря на неуничтожимую пока еще пуповину, связывающую их со средневековой христианской мыслью, уже акцентируют момент превосходства собственного творчества над всяким иным: «художник должен творить так, как Бог творил мир, и даже совершеннее того» (58). Как совершенно справедливо отметил А.Ф. Лосев, «здесь средневековая маска вдруг спадает [186] и перед нами оголяется творческий индивидуум Нового времени, который творит по своим собственным законам» (58).
Затем, уже в период романтизма, как показывает Ф.П. Федоров, «художник у Шлегеля (имеется в виду Ф. Шлегель. — И. Е.) обретает функцию Господа (не в метафорическом, а в прямом смысле)» (14). Принципиально важно, однако, что здесь знаменитая романтическая «ирония является единственным знаком «божественности», бесконечности конечного мира», что уже само по себе, по признанию исследователя, достаточно «парадоксально»(15). Ведь, как отмечает П.П. Гайденко, «первый важный момент, характеризующий принцип иронии, — это превосходство субъективности над ее предметным выражением»(16). Сам же «принцип иронии был сформулирован Шлегелем под влиянием философских идей Фихте»(17). Философская система Фихте и является своего рода соединительным звеном между «субъективизмом» Возрождения и эстетикой романтизма.
Прослеживая нарастания абсолютизации человеческого Я, А.Ф. Лосев резюмировал, что в полной мере «универсальный субъективизм будет достигнут только в конце XVIII века в творчестве раннего Фихте. Ренессанс еще не был способен на такую абсолютизацию человеческой личности» (289). Что же более всего привлекало романтиков в философии Фихте? Именно то, что как нельзя больше созвучно и авангарду XX столетия. По формулировке Ф.П. Федорова, «»наукоучение» Фихте было воспринято ранним Ф. Шлегелем, как и его сподвижниками по романтизму, с необычайным энтузиазмом, прежде всего тезис Фихте об абсолютном Я, творящем не-Я, а также утверждение о несовершенстве реальности, не-Я»(18). Мы имеем здесь уже не прообраз, а прямо-таки эйдос будущего авангардистского «ячества». Ведь «наукоучение» Фихте романтики трансформируют в сторону еще большей субъективации. «Именно романтики абсолютное Я Фихте идентифицируют с индивидуальным Я, Я художника прежде всего… человек становится равновеликим Господу, вселенной, универсуму»(19).
Заметим попутно, что о несовершенстве самого художника-творца, как и о реальной сотворенности и осмысленности того, что именуется не-Я, речь не идет. По-видимому, несмотря на всю увлеченность романтиков христианскими аллюзиями, мы имеем дело с весьма поверхностным следованием истончившейся к этому времени христианской традиции. Вероятно, и сама эта традиция, с точки зрения романтиков, может быть отнесена к несовершенной сфере не-Я, требующей решительного вмешательства со стороны Я художника и не менее решительной трансформации и «улучшения». Здесь в смягченном варианте можно обнаружить то, что Н.Р. Малиновская, комментируя воззрения С. Дали, сформулировала как «общий знаменатель авангардизма»: «искусство — это клиника, художник — хирург, кисть, слово — ранящий скальпель» (569). Наверное, далеко не случайно, что «только после романтизма… в струе либерализма и антиклерикализма образ. Сатаны как вольнолюбивого мятежника может стать однозначно положительным»(20).
Великий современник романтиков Г.В.Ф. Гегель благодаря позиции «вненаходимости» с предельной четкостью сформулировал главную особенность их эстетики. «Подлинным содержанием романтического, — полагал он, — служит абсолютная внутренняя жизнь, а соответствующей формой — духовная субъективность… В романтическом искусстве перед нами… два мира. С одной стороны, духовное царство, завершенное в себе… С другой стороны, перед нами царство внешнего как такового, освобожденного от прочного единства с духом; внешнее становится теперь целиком эмпирической действительностью, образ которой не затрагивает души»(21). Романтиками «внешнее рассматривается как некий безразличный элемент»(22).
Как можно заметить, «царство духа», целиком и без остатка относимое лишь к «внутренней жизни» автора, обездушивает и мертвит тем самым все остальное, превращая его во «внешнее как таковое», в «безразличный», не обладающий собственным «духом» и смыслом материал. В недрах романтизма происходит как бы окончательное «освящение» права Я на использование «внешнего» мне «безразличного элемента» в любых случайных контекстах, зависящих лишь от авторской «духовной субъективности», то есть права навязать лишаемому собственного «духа» внешнему материалу привносимое извне содержание, иной «дух» и смысл. А точнее, используя уже цитируемую выше мысль Гадамера, права «отторгнуть смысл». Ведь для романтического сознания «внешнее, поскольку оно существует и обладает наличным бытием, образует лишь случайный мир» (23).
Итак, общим для романтизма и авангарда является углубление возрожденческого «зияния» между онтологией и гносеологией, между познающим и творящим Я и косным не-Я, ставшим для моей «духовной субъективности» лишь «неким безразличным элементом», экспериментальным строительным материалом, «случайным миром», в котором обитает мой «дух».
В ранней статье 1919 года «Искусство и ответственность» М.М. Бахтин, находясь в атмосфере тотального экспериментирования, полемически акцентировал: «легче творить, не отвечая за жизнь» и, таким образом, «снять свою ответственность»(24). Однако художник, воспринимающий миропорядок как «случайный» и «безразличный» по отношению к своему «духовному царству», разумеется, тем самым как бы «умывает руки», снимает с себя всякую ответственность «за жизнь» и всякую «вину» перед ней. Но М.М. Бахтин настаивал — и весьма убедительно — на «единстве вины и ответственности»(25). Авангардное же искусство с этой точки зрения есть искусство предельно безответственное по отношению к жизни и уже потому «виновное» за следующий за ним тоталитаризм.
Ведь и романтическая вера в сугубую необыкновенность собственной духовной жизни, и отвращение к «низкой» жизни других людей («обывателей» и «толпы»), необходимые романтику в качестве выгодного фона для «парения духа», не случайно во всех европейских литературах завершаются мотивом «утраченных иллюзий». Другие люди не пожелали оставаться лишь «безразличным элементом» для действий героя-романтика. Ценности жизни, понимаемые романтиком как неистинные и «случайные», разрушили, прежде всего, само романтическое самоопределение. Поздние романтики (например, Мюссе, Гофман) с ужасом обнаружили неискоренимость «обыкновенной жизни», поскольку презираемый ими «другой» оказался не вне, а внутри романтической личности. Отсюда частое у героя-романтика презрение к самому себе. Человеческое (то, что сближает с другими людьми) оказалось вовсе невозможно изгнать в «эпирическую реальность». Направленное на других [189] презрение бумерангом вернулось к герою-гордецу. Точно так же, как и агрессивность авангарда обернулась в России агрессией по отношению ко многим авангардистам. Лишний раз доказал свою универсальность открытый А.А. Ухтомским закон «заслуженного собеседника».
Вряд ли случайна неизбежность реакции на произвол эмансипированного субъекта творческого поведения: в той или иной форме это всегда реабилитация отвергаемой «эмпирической реальности». Будь то вызывающая резко негативную оценку у авторов «Истории всемирной литературы» сменившая возрожденческое устремление со второй половины XVI века «тенденция к новому усилению связи государства и части культурных движений с коснеющими… церквами» (26) или же пришедшая на смену романтической «поэтике развоплощения» (27) объективация в реалистических направлениях XIX столетия. Но наиболее оглушительный переход мы наблюдаем именно в нашем веке и именно в нашей стране. Родоначальник футуризма, полагавший, что его разновидность авангардного искусства «перевернет и спалит весь мир» (161), ошибся лишь в адресованности угрозы.
По-видимому, сыграло свою роль отсутствие «иммунитета» к религии человекобожества: как известно, в России не было эпохи Возрождения как необходимой «прививки», смягчившей последующие «волны» дальнейшего «разгула секуляризованного индивидуума» (А.Ф. Лосев). Как нам уже приходилось писать, русская классика гораздо теснее связана с древнерусской литературой, ориентированной на средневековые христианские ценности, чем это порой представляют. Русский же романтизм был слишком специфичен и слишком «ослаблен», чтобы в достаточно серьезной степени взять на себя функции возрожденческого титанизма и фихтеанского дуализма, рассмотренных нами выше. В итоге авангардистская экспансия в России в альянсе с авангардизмом в политике явилась смертельной инъекцией для традиционной культуры. «Эстетическая провокация», несомненно, удалась.
Далее же произошло именно то, что должно было произойти. Превращение авангардной культуры в культуру тоталитарную как бы повторило эволюцию «наукоучения» Фихте, глубоко проанализированную П.П. Гайденко, где «апофеоз свободы оборачивается крайностями [190] тоталитаризма»(28). Добавим только, что парадокс, постоянно повторяющийся (а подобное превращение исследовательница склонна именовать именно «парадоксом») — то в эпоху Возрождения, то в постромантический период, то в советское время российской истории, — перестает быть парадоксом, а становится пугающей и предупреждающей закономерностью. По крайней мере, возвращаясь к заявленной эпиграфом аналогии, позволительно надеяться, что Россия, так трагично-неосторожно ласкавшая «злонравного карлика», переболев, уже наконец обрела необходимый «иммунитет» к ворчанию и мяуканью крошки Цахеса. Поэтому величать его в дальнейшем господином Циннобером она, хотелось бы верить, вряд ли станет. [191]
____________
1. См., например, в высшей степени симптоматичную работу: В. Паперный. Культура «Два». Ann Arbor, 1985.
2. Далее они цитируются нами по изданию: «Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западноевропейской литературы XX века». М., 1986. Страницы указываются в скобках. Слова подчеркнуты нами, кроме специально оговоренных случаев.
3. Цитируется по изданию: «Русская литературная критика конца XIX — начала XX века». М., 1982. С. 349.
4. Там же. С. 350.
5. Russian Literature. XXIII. 1988. Р. 91.
6. Русский курьер. 1991. № 26.
7. Г.-Г. Гадамер. Актуальность прекрасного. М., 1991. С. 238.
8. См.: Р. Барт. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989 С. 549-550.
9. В. Паперный. Культура «Два» С. 173.
10. См.: И.Р. Шафаревич. Социализм как явление мировой истории. Париж, 1977. С. 339-359.
11. Там же. С. 367.
12. А.Ф. Лосев. Из ранних произведений. М., 1990. С. 440.
13. А.Ф. Лосев. Эстетика Возрождения. М., 1982. С. 42. Далее ссылки на это издание даются в тексте.
14. Ф.П. Федоров. Романтический художественный мир: пространство и время. Рига, 1988. С. 109.
15. Там же.
16. П.П. Гайденко. Трагедия эстетизма. Опыт характеристики мировоззрения Серена Киркегора. М., 1970. С. 60.
17. Там же. С. 57.
18. Ф.П. Федоров. Романтический художественный мир… С. 105.
19. Там же. С. 106.
20. Мифы народов мира. Т. 2. М., 1988. С. 414.
21. Г.В.Ф. Гегель. Эстетика. Т. 2. М., 1969. С. 233, 241.
22. Там же. С. 240.
23. Г.В.Ф. Гегель. Эстетика. Т. 2. С. 240.
24. М.М. Бахтин. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 6.
25. Там же.
26. История всемирной литературы. Т. 3. М., 1985. С. 27.
27. Н. Я. Берковский. Романтизм в Германии. Л., 1973. С. 144.
28. П.П Гайденко. Парадоксы свободы в учении Фихте. М., 1990. С. 128.
Cтатья опубликована: Вопросы литературы. 1992. № 3. С. 176-191.

5 комментариев
Прекрасная статья! Когда читаешь текст, и не верится что написано в 1992 году… молодым ученым:) Настолько все четко и концептуально. Вам Господь дал великий талант,Иван Андревич! Прочитав Вашу статью, я наконец окончательно поняла, почему я не могу, просто не могу воспринимать авангард и заумь, не способна даже как-то воспринимать эти художественные тексты, которые «типологически одно и то же явление: эстетическое умерщвление онтологически понимаемой реальности. Это массовое либо индивидуальное гносеологическое надругательство над осмысленным и данным — от Бога — миром.» Как проницательно сказано, более четко трудно сформулировать. Вот это-то мне и мешает, сильно мешает при знакомстве с авангардом.
Cпасибо! ) Но не преувеличивайте… )) Мне рассказывали (притом в Европе), что адепты авангарда очень рассердились на меня за эту статью. Но, в отличие от «наших», они все-таки люди-то адекватные. Тем более, они понимали, что это, как и обычно, «против течения», против «моды». Поэтому я частенько участвовал — и после публикации этой статьи — на конференциях, которые проходили в тогдашней «столице» изучения русского авангарда — в Загребе. Продолжая при этом изучать практику «левых» течений. И в искусстве. И в науке. Даже и в жизни. Надеюсь скоро несколько удивить результатами этих занятий. Если успею.
Иван Андреевич, ну понятно, что рассердились… Ведь очень точно все прописано, просто даже и добавить нечего. А обидно:))) Вот так и авангард:) Ведь адекватные люди тоже понимают, что верно сказано. Удивить новыми изысканиями всегда успеете, читатели Ваши только РКНП освоили. Главное еще и размеренность в нашей жизни, чтобы не в ущерб здоровью и самочувствию!
Это одна из самых лучших статей про авангардистов, которую мне когда-либо приходилось читать. И здорово, что ее напечатали в те незапамятные времена, когда в РФшной цензуре царила все еще неразбериха: еще не поняли, как надо гайки закручивать. Наверное, сейчас эта работа застряла бы где-нибудь. Спасибо, что дали возможность с ней познакомиться! У Вас, я думаю, еще много таких работ припрятано «в рукаве», как у Царевны-лягушки)))).
Cпасибо. ) Там есть, в частности, некоторые цитируемые мной имена, которые уже тогда в подобных изданиях — в положительном контексте — невозможно было цитировать. Прямо-таки по умолчанию. Уже в те годы. В данном случае прошло. )) А в целом Вы правы: «гайки закручивать» только учились. Притом и те, кто сейчас во власти, и те, кто сейчас в «оппозиции». Кто из них более нетерпим к чужому мнению, сказать затрудняюсь. Тогда некоторым еще неловко было, после советского-то цемента. А потом уже вполне освоились.
Последние записи
Последние комментарии
Архивы