От Гоголя к Достоевскому: культурная непрерывность или «ход коня»? Теоретический этюд
Каждый помнит, что «ход коня» — это термин опоязовской, формалистской эстетики, введенный В.Б. Шкловским, по словам которого, напомнившего шахматную игру, «конь не свободен, – он ходит вбок потому, что прямая дорога ему запрещена» [Шкловский, 1923: 10]. Он означает наследование не по прямой линии, а по боковой. Другими словами, вспоминая еще один броский тезис формальной школы, это наследование не от отца к сыну, а от дяди к племяннику.
Формалисты поставили под сомнение господствующую – к их появлению – историю литературы, а именно – сам вектор движения русской литературы, которую они иронически передавали так: «Получалась стройная картина: “Ломоносов роди Державина, Державин роди Жуковского, Жуковский роди Пушкина, Пушкин роди Лермонтова”» [Тынянов, 1929: 10].
Говоря же о векторе движения этой литературы, с одной стороны, мы имеем устаревшие схемы, восходящие еще к «позитивизму» XIX в., очень любившему рассуждения о неких «закономерностях» поступательного развития литературы – а потому и стремившемуся уложить «науки о духе», частью которых является и литературоведения, в ту же схему, что и «природная эволюция». Отсюда и стремление видеть в истории литературы некие «закономерности». Согласно этой доктрине, мы имеем постоянную континуальность развития. С другой же стороны, ей противостоит противоположная по смыслу опоязовская доктрина, базирующаяся на дискретности:[68] достаточно вспомнить знаменитую статью Ю.Н. Тынянова «О литературной эволюции», в которой само слово «традиция» поставлено в иронические кавычки, ибо, согласно этой установки, там, где речь идёт о «традиции», на самом деле мы имеем дело с подражательством и эпигонством [Тынянов, 1929: 30-47]. Настоящая же «эволюция» по-опоязовски – это именно «ход коня», наследование от «дяди к племяннику», иными словами, скорее, уж революция, чем собственно эволюция [см.: Медведев, 1993].
Нужно быть благодарным формалистам за резкую проблематизацию того, что ранее казалось совершенно очевидным. Но, к сожалению, слишком часто их плодотворные гипотезы, излагаемые порой провокативным слогом – особенно у того же Шкловского, – по разным причинам (как внутрилитератрным, так и внелитературным) — не получили в сталинские десятилетия естественного развития. Хотя подспудно подобные идеи и присутствовали (а не были радикально отвергнуты) в советской филологии: достаточно вспомнить, что теоретические воззрения близкого формалистам Г.А. Гуковского легли в основу не только утвердившейся в науке схемы русской литературы нового времени [Есаулов, 2019: 37-45], но и составили основу преподавания литературы в школе [Пономарев, 2004].
Так и вышло, что в позднесоветское время выходило бесчисленное количество литературоведческих сборников, которые имели в своем названии «бесконфликтную» формулу «Традиции и новаторство», в которой – на самом деле – механически контаминировались две линии литературоведения – одна («традиции»), восходящая к доопоязовскому этапу, ставшая актуальной по мере вытеснения сталинистской Культурой Два авангардно-революционной Культуры Один [cм.: Паперный, 1996], а другая («новаторство») в своей «памяти жанра» несколько стыдливо «продолжала» в такой словесной одежде опоязовский революционизм. Отсюда и небывалые для русской (дооктябрьской) филологии формулировки, вроде «новаторства» Державина, Пушкина, Гоголя и т.д. Мы сейчас не будем обсуждать ту очевидную – после классических работ Т.С. Элиота [Элиот, 1996] и У.Х. Одена [Оден, 2016] – мысль, что не зауженное формалисткой доктриной представление о традиции (в кавычках), но традиция подлинная отнюдь не противостоит «новизне», не является ее антонимом [Есаулов, 2005, 2011б], но обратимся к конкретному литературному материалу.
Наиболее известна и до сих пор влиятельна в научной среде работа Тынянова «Достоевский и Гоголь» с подзаголовком «К теории пародии». Согласно этой статье (в духе формалистской установки о непременной «борьбе и смене» направлений как основном факторе развития литературы) Гоголь пародируется Достоевским*, в частности, в «Селе Степанчикове [69] и его обитателях». Концептуальные основания подобных установок давно уже нуждается в серьезном концептуальном же рассмотрении, а также в кардинальном методологическом пересмотре, который хотя и был начат в известной работе П.Н. Медведева (М.М. Бахтина?), но до сих пор не реализован.
Отечественные критики не могли – по слишком понятным причинам — прямо писать о принципиальном игнорировании Тыняновым общего культурного знаменателя (культурной грибнице) творчества Гоголя и Достоевского: православной культуры с ее «категорическим постулатом» (Вяч. Иванов) — пасхальным архетипом [Есаулов, 2004, 2020]. О том, что Тынянов (в отличие от Бахтина) не признавал позитивную значимость традиции, ставя это слово в кавычки, мы уже напомнили. Однако в такие же кавычки Тынянов часто ставит и слово герой. Бахтинские соображения о диалоге автора и героя с позиций формалисткой поэтики какая-то ненаучная бессмыслица. Есть одно, предстоящее литературоведу, сознание — автора, а лучше сказать материальный предмет: текст (излюбленную предшествующими поколениями филологов «психологию» героев – с позиций все той же поэтики — нужно оставить «психологам», выведя ее из литературоведческого оборота). Никакого «другого сознания», помимо авторского, в тексте нет и быть не может. Таким образом, настоящий герой «Евгения Онегина» это вовсе не авторские «фикции», вроде Онегина или Татьяны, а, разумеется, механизм, которым «сделан» роман, т.е. «онегинская строфа».
Поэтому в работе Тынянова слова героев – того же Фомы Опискина, в которых используются гоголевские конструкции, – в частности, из «Выбранных мест из переписки с друзьями» — приписываются не Фоме Опискину, а самому Достоевскому – и на этом основании, по Тынянову, выходит, что Достоевский (как автор), пародирует Гоголя. Таким образом, происходит смешение этической сферы героя и эстетической задачи автора: тем самым, не учитывается исключительно важная для художественного мира именно Достоевского степень свободы героя, этого второго сознания.
Так, согласно Тынянову, «основной прием Гоголя в живописании людей – приём маски»; автор время от времени «обнажает приём», создавая «комическую ощутимость произведения»; [Тынянов, 1921: 11, 14]. Обращаясь к «морально-религиозным темам» Гоголя, исследователь усматривает и там исключительно «систему вещных метафор»: например, «Бог – «Небесный государь»»; однако при этом «то, что было законным приемом в области художественной, ощутилось как незаконное в морально-религиозной и политической области». Даже и надежда на «преображение жизни» по законам творчества, которую Гоголь связывал с поэзией Языкова и с переводом «Одиссеи» Жуковским, Тыняновым толкуется исключительно как «смена масок». При подобном подходе исследователь не удерживается от иронии, связанной с главной задачей Гоголя – воскресением мертвых душ: «Чичиков должен возродиться <…> Подобно тому как маска казака в красном жупане превращается в маску колдуна («Страшная Месть»), должен был преобразиться даже Плюшкин, чудесно [70] и просто» [Тынянов, 1921: 15–17]. Если и воскресение истолковывается как «смена маски», это не только овнешняет предмет исследования (более элементарным – буквализмом, отсекая высокие сакральные смыслы, «измеряется» более сложное), но и при такой исследовательской оптике трансформируется сам предмет: творчество Гоголя.
В сущности, тот же самый исследовательский «приём» (если позволить себе обыграть терминологию формалистов), используется и при описании поэтики Достоевского: «В «Преступлении и Наказании» контраст между сюжетом и характерами уже художественно организован: в рамки уголовного сюжета подставлены контрастирующие с ним характеры: убийца, проститутка, следователь в сюжетной схеме подменены (курсив мой. – И. Е.) революционером, святой, мудрецом» [Тынянов, 1921: 21]. Такого рода подход имеет гораздо больше общего с позднейшей «интертекстуальностью», нежели с тем, что Бахтин определил как «диалог» (что и было затем редуцировано до интертекстуальности в западной – прежде всего, французской – постструктуралистской теоретической мысли). Поэтому и плодотворный – для развития русской литературы — диалог Достоевского с Гоголем по Тынянову редуцируется до «пародии» (внешнего сопоставления конструктивных особенностей текстов того и другого авторов): «Опискин – характер пародийный, материалом для пародии послужила личность Гоголя; речи Фомы – пародируют гоголевскую «Переписку с друзьями»» [Тынянов, 1921: 28].
Будучи сфокусированными на акцентуации дискретности литературного развития, как Тынянов, так и Шкловский не видели творческого потенциала в наследовании писателями культурной традиции, как и в самой континуальности (в том числе – и главным образом, если говорить о русской литературе, – в традиции христианского, православного ви́дения мира). Тогда как и Гоголь, и Пушкин наследуют как раз православному культурному преданию** в своем творчестве, осваивая в своих художественных произведениях (и в разные этапы своей писательской биографии) различные ярусы этой великой традиции. В конечном итоге, глубинный подтекст формалистской эстетики – это фрейдистская*** установка на «убийство» отца-предшественника и «овладение» матерью-литературой (или культурой). Существенная зависимость историков русской литературы советской эпохи (особенно первых большевистских десятилетий) от фрейдомарксизма уже становилась предметом научного исследования как в целом [Эткинд, 1993], так и – особенно – в ее формалистском изводе [Калинин, 2006]. Последний, пытаясь выявить «специфику» формалистского истолкования «движения литературного процесса», обнаруживает за ним «концептуальную логику психоанализа» [Калинин, 2006: 64]. Особенно показательно, что «речь не идет [71] о сознательных теоретических заимствованиях и тем более о прямой генетической связи между развитием и распространением психоаналитической теории и возникновением формальной школы», но о «творческом использовании (возможно и даже вероятно, носящем неосознанный характер) некоторых наиболее общих интеллектуальных ходов» [Калинин, 2006: 64–65] фрейдизма. Подобное вполне можно обозначить как общее для фрейдизма и советского формализма культурное бессознательное, чем, по-видимому, и можно объяснять горячую симпатию к интеллектуальным построениям венского психоаналитика в первые послеоктябрьские десятилетия. Эту зависимость уже нельзя игнорировать, как это делалось ранее, и при обсуждении более «частных» вопросов – например, в суждениях формалистов о линии Гоголь/Достоевский. Осталось лишь понять – насколько «специфика» этого типа культурного бессознательного отвечает ценностям русской культуры – и ее собственному культурному бессознательному – с ее собственными основными архетипами.
Формалисты, пытаясь всемерно маргинализировать сакральный пласт русской культуры, исключив его из своего рассмотрения, замыкались исключительно в «малом времени» эпохи, говоря словами Бахтина. Следуя подобного рода акцентуации, исследователь в своей работе приходит исключительно к сосредоточиванию на проявлениях дискретности XIX в. («Арзамас» против «Беседы любителей русского слова», Достоевский против Гоголя, Тургенев против Достоевского, спор Леонтьева с Достоевским – и так далее). Отечественная литература при подобной научной установке продолжает рассматриваться сквозь призму внешних для нашей национальной культуры квазиуниверсалистских социологических категорий – в рамках etic- подхода [Есаулов, 2011a; 2017: 26–29]. И до сих пор редки попытки понять русскую классику, исходя из ценностей большого времени русской культуры как таковой, сквозь призму не навязанной ей внешней и искусственной для нее терминологии [См.: Есаулов, Сытина, 2020], а сквозь призму таких категорий, которые укореняют творчество русских писателей в просторах незавершимого «большого времени». Когда выявляется тот общий знаменатель русской культуры, который не разделяет, а соединяет творчество Пушкина, Гоголя, Тургенева, Достоевского в единстве национальной культуры, в том единстве, которое, вопреки марксистской доктрине, реально существует. Давно уже самым решительным образом необходимо преодолеть как позитивистскую, так и формалистскую зауженность ви́дения – и выйти на просторы большого времени русской православной культуры.
Скажем, «Записки охотника» «западника» Тургенева, если мы попытаемся их понять в системе ценностей самой русской культуры, – не «протест» против крепостничества, не «изображение» в ряде очерков действительности середины XIX века (хотя то и другое не могло, разумеется, не «отразиться» в тургеневских текстах), а поэтический образ России как таковой, выходящий далеко за пределы так называемой «натуральной школы». Тургенев показывает богатый, сложный, многоразличный и, главное, живой,[72] развивающийся русский мир: с его христианскими ориентирами, смирением, грехами, буйством, своеволием и поэзией. Это поэтический образ русского мира. Единого, но многоцветного. А вовсе не галерея «крепостных» глазами барина с ружьем [см.: Есаулов, 2018]. В «малом времени» XIX века Тургенев может занимать совершенно определенную идеологическую позицию, может ожесточенно полемизировать со славянофилами, но в большом времени русской культуры мы вправе прочесть и рассказ «Живые мощи», с его эпиграфом из Тютчева, и в целом «Записки охотника» таким образом, что здесь – в «культурном бессознательном» автора – актуализируются те же ценности, что и у Тютчева, которые объединяют, а не разделяют русских писателей, потому что они выходят за пределы «малого времени» их современности и показывают нам «нашу Россию, – нашу русскую Россию» [VIII: 409], как выразился по другому случаю Гоголь.
Достоевский в этом контексте понимания завершает в истории отечественной литературы то, что не смог (или не вполне смог) осуществить Гоголь, воплощая пасхальный архетип русской культуры в своих художественных созданиях. Воскресение, намеченное Гоголем для читателей/зрителей «Ревизора» или имплицитно осуществленное – в финале первого тома «Мертвых душ», но исключительно в сфере авторского замысла, реализовавшегося к тому же не во всей чаемой самим автором полноте, в мире Достоевского реализуется уже также и в мире героев, их самосознании (правда, не в индивидуально-личностном, но при соборном участии другого/других). [73]
—
* Разумеется и до появления этой работы в русской литературной критике имелись суждения о Достоевском не только как прямом преемнике Гоголя (В. Г. Белинский, Н. А. Некрасов), но и прямо противоположные им (П. А. Плетнев, Н. Н. Страхов, В. В. Розанов) – о них упоминает и Тынянов, но он, стараясь акцентировать и генерализовать понятие борьбы («… всякая литературная преемственность есть прежде всего борьба…» [Тынянов, 1921: 6]), оказал наибольшее воздействие на подобные представления о литературном процессе, вполне совпадающие со схожими общественными тенденциями его «малого времени».
** Напомним, что для основателя исторической поэтики А. Н. Веселовского ее задача «определить роль и границы предания в процессе личного творчества» [Веселовский, 1940: 493].
*** Ср. утверждение Шкловского из «Сентиментального путешествия»: «…я не социалист, я – фрейдовец!» [Шкловский, 2002: 76].
Литература
Веселовский А. Н. Историческая поэтика. Л., 1940.
Есаулов И. А. Евангельский текст в русской культуре и современная наука // Проблемы исторической поэтики. Вып. 9. Петрозаводск; СПб., 2011. С. 5–23.
Есаулов И. А. «Записки охотника» и многообразие русского мира // «Его Величество Язык Ее Величества России»: Сб. трудов к 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева. Орел, 2018. С. 17–22.
Есаулов И. А. Парафраз и становление новой русской литературы (постановка проблемы) // Проблемы исторической поэтики. 2019. Т. 17. № 2. С. 30–66.
Есаулов И. А. Пасхальность русской словесности. 2-е доп. изд. Магадан, 2020.
Есаулов И. А. Русская классика: новое понимание. 3-е доп. изд. СПб., 2017.
Есаулов И. А. Традиция в художественном творчестве // Введение в литературоведение: Учебник для студентов высших учебных заведений. 4-е изд. М., 2011. С. 573–583.
Есаулов И. А. Христианская традиция и художественное творчество // Проблемы исторической поэтики. 2005. Т. 7. С. 17–28.
Есаулов И. А., Сытина Ю. Н. «Маленький человек» Достоевского в историко-литературной перспективе: между «вещью» и личностью // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2020. Т. 21. Вып. 3. С. 419–428.
Калинин И. История литературы как Familienroman (русский формализм между Эдипом и Гамлетом) // Новое литературное обозрение. 2006. № 4 (80). С. 64–83.
Медведев П. Н. Формальный метод в литературоведении. М., 2003.
Оден У. Х. Чтение. Письмо. Эссе о литературе. М., 2016.
Паперный В. Культура Два. М., 1996.
Пономарев Е. Р. Созидание советского учебника по литературе. От М. Н. Покровского к Г. А. Гуковскому // Вопросы литературы. 2004. № 4. С. 39–77.
Тынянов Ю. Н. Архаисты и новаторы. Л., 1929.
Тынянов Ю. Н. Достоевский и Гоголь (К теории пародии). Пг., 1921.
Шкловский В. Б. «Еще ничего не кончилось…». М., 2002.
Шкловский В. Ход коня: Сб. статей. М.; Берлин, 1923.
Элиот Т. С. Назначение поэзии. Киев, 1996.
Эткинд А. Эрос невозможного: История психоанализа в России. СПб., 1993.
Работа выполнена за счет гранта Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 18-011-90002).
ОПУБЛИКОВАНО: Гоголь и вектор движения русской литературы. Двадцать первые Гоголевские чтения: сб. науч. статей по материалам Международной научной конференции, Москва, 19–21 мая 2021 г. М.; Новосибирск: Новосиб. изд. дом, 2022. С. 68–74.
Можно также прочесть статую в формате PDF: От Гоголя к Достоевскому.


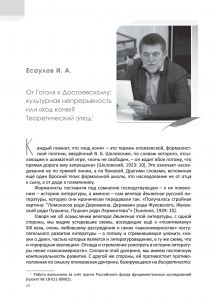
Добавить комментарий