РОССИЯ С ПОЗИЦИИ ВНЕНАХОДИМОСТИ И/ИЛИ ПРИЧАСТНОГО ВИДЕНИЯ? (ГОГОЛЕВСКАЯ «ТОЧКА ЗРЕНИЯ» В «МЕРТВЫХ ДУШАХ»)
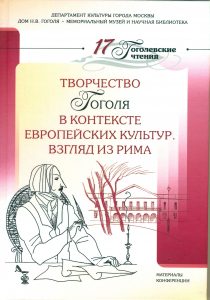

В самом названии нашей работы сделана попытка контаминировать гуманитарную терминологию различной семантики, отсылающую к различным научным традициям. Правда, одна научная система чрезвычайно широко задействована в филологической практике, другая же в настоящее время является (или пока является) несколько более маргинальной. Если понятие «вненаходимости», как известно, успешно введено не только в русское, но и в мировое литературоведение М.М. Бахтиным [1979: 14-16; 362-373], то «причастное видение» связано с именем А.А. Ухтомского (наследие которого никак не принадлежит научному мейнстриму) [1996: 248-308; 395-404].
Ухтомский относится к так называемым «русским китежанам», по чрезвычайно удачному, на мой взгляд, определению, В.Е. Хализева [1995: 14-17; подробнее об Ухтомском в близком контексте понимания: Хализев, 2011]. Эти «китежане», находясь в условиях погрома России ХХ века, смогли выразить некоторые существенные, хотя и сокрытые до поры до времени от глубинного осмысления, доминанты русского национального образа мира. Например, М.М. Пришвин так отозвался о поздней пушкинской повести:
Моя родина не Елец, где я родился, не Петербург, где я наладился жить, — то и другое для меня теперь археология, моя родина, непревзойденная в простой красоте, в сочетавшейся с нею доброте и мудрости, — моя родина – это повесть Пушкина «Капитанская дочка» [Пришвин, 1986: 679]. [163]
«Вненаходимость» акцентирует некое дистанцирование от изображаемого мира, именно поэтому, по Бахтину же, подлинный автор и облачен в молчание [1979: 353]. Причастное видение предполагает, напротив того, неотчужденность автора от изображаемых ситуаций и этических конфликтов, не вынесение его точки зрения исключительно лишь в эстетическую плоскость (эстетическое завершение своих персонажей и созданного им, автором, художественного мира).
Могут ли быть хоть как-то согласованы эти различные методологические принципы – и тогда нам в заглавии статьи нужно употребить союз «и»? Или же их соединение настолько искусственно, что лучше оставить взаимоисключающее «или/или»? Находится ли автор внутри сотворенного им же художественного мира «Мертвых душ», вместе со своими персонажами, либо же вне этого мира? И какова его, автора, «точка зрения» (если она, конечно, вообще имеется и может быть установлена и описана исследователем)?
Конечно, каждый вспомнит тут же текст «Мертвых душ», знаменитое «лирическое отступление» из 11 главы:
<...> Русь! Русь! вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу <…> [VI: 220].
Если же мы попытаемся понять изменение семантики слова «Русь» хотя бы в этом самом «отступлении», то не можем не прийти к выводу об определенной динамике изменения, о некоем векторе движения авторской мысли. Это движение от синонимичности «Руси» и грешной России к уподоблению «Руси» «святой Руси». Вначале «бедно, разбросанно и неприютно в тебе; не развеселят, не испугают взоров дерзкие дива природы», а в финале: «у! какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль! Русь!..» [VI: 221].
Но зададимся вопросом: автор ли это говорит? Авторская ли это точка зрения? Например, если мы вспомним известные бахтинские методологические установки, то подлинный автор и «облачен в молчание». Любая отдельно выделенная фраза текста может принадлежать кому угодно из сотворенных лиц, но отнюдь не автору-творцу: например, рассказчику, повествователю, хроникёру и т.д. Но тогда и позиция читателя, имплицитного читателя должна быть во всяком случае неким зеркальным подобием автора, находящегося в позиции вненаходимости по отношению к его же «художественному миру». Но так ли у Гоголя? Зеркальны ли «креативный» и «рецептивный» субъекты сознания, между которыми – текст произведения?
Напомню:
Но мы стали говорить слишком громко, – перебивает свое повествование Гоголь в 11 главе «Мертвых душ», – позабыв, что герой наш, спавший всё время рассказа его повести, уже проснулся и легко может услышать так часто повторяемую свою фамилию. Он же человек обидчивый и недоволен, если о нем изъясняются неуважительно. [164]
Читателю с полугоря, рассердится ли на него Чичиков или нет, но что до автора, то он ни в каком случае не должен ссориться с своим героем… [VI: 245–246. курсив наш. – И.Е.].
Совершенно ясно, что автор, так и называемый в тексте его поэмы Гоголем – «автор», в данном случае находится в одном континиуме со своим героем – настолько, что герой может услышать автора и обидеться на неуважение.
Но в той же самой поэме мы видим и совершенно иную точку зрения автора:
<…> летит мимо всё, что ни есть на земли, и косясь постараниваются и дают ей (Руси) дорогу другие народы и государства [VI: 247].
Ясно, что в этой реальности нет уже спящего Чичикова с его недовольством – как нет вообще собственно земной конкретики (ведь увидеть как «летит мимо всё, что ни есть на земли» – возможно с какой-то иной, явно не относящейся к земной реальности точки зрения). Как будто бы именно в этом – втором – случае мы имеем дело с той «вненаходимостью», которая и обозначена мною в названии настоящего доклада? Однако же в этом нам еще предстоит разобраться.
Теперь вернусь к бахтинскому представлению о авторской «вненаходимости». Бахтин особо настаивает на том, что автора недопустимо отождествлять с «…человеком определенного времени, определенной биографии и определенного мировоззрения <…> Автор-создающий не может быть создан в той сфере, в которой он сам является создателем. Это natura naturans, а не natura naturata» [Бахтин, 1979: 362–363].
Иными словами, подобно Богу-Отцу, которого никто никогда не видел, автора тоже нельзя «увидеть» в том или ином созданном им «образе», будь он сколь угодно близок биографическому или какому бы то ни было иному «вторичному» предмету художественного видения. Именно по отношению к «первичному» автору Бахтин замечает, что тот «облекается в молчание» [1979: 353]. Иначе говоря, любой звучащий голос в произведении не является выражением авторской точки зрения: поскольку Словом автора как раз и становится целое произведения.
Однако обращу внимание и на то, что из этой бахтинской установки еще не следует с необходимостью постулат о равномерном присутствии авторского сознания в структуре художественного целого. Напротив, бахтинское возражение структурализму – «против замыкания в текст» [1979: 372] можно истолковать и таким образом, что в структуре текста литературовед структурно-семиотической ориентации может обнаружить лишь «абстрактное идеальное образование» [1979: 368].
Поэтому Бахтин и замечает:
В структурализме только один субъект – субъект самого исследователя [1979: 372].
Таким образом, рождение этого субъекта куплено ценой смерти другого субъекта: автора, полностью растворенного в структуре текста и тем самым деперсонифицированного. [163]
Стремление «учесть» и «описать» мельчайший элемент формы произведения, а тем самым подчеркнуть существенность этого элемента в составе целого не должно приводить к признанию («по умолчанию») равной значимости этих «выделенных моментов» целого для собственного смысла целого. Ведь представление о равномерности пространства и одинаковости его свойств – давно пройденный этап даже в современной физико-математической картине мира. Так, в работах отца П. Флоренского подобные «евклидовско-кантовские» представления о свойствах пространства подвергнуты убедительной критике [Флоренский, 2000].
Вероятно, и в художественном произведении выделяются моменты разной смысловой значимости: и присутствие автора «только в целом произведения» отнюдь не исключает разной степени явленности (воплощенности) автора в том или ином «моменте» произведения. В противном случае мы становимся невольными приверженцами гипотезы одномерного и скучного «ньютоновского» представления о «теле» произведения. Сравним суждение А.Ф. Лосева об «относительной мифологии» механики Ньютона: «Мир – абсолютно однородное пространство. Для меня это значит, что он – абсолютно плоскостен, невыразителен, нерельефен. Неимоверной скукой веет от такого мира» [2001: 45].
Дело в том, что хотя отношение автор & герой в значительной степени изоморфны отношению Бога и человека, что давно замечено исследователями бахтинской эстетики, но в различных религиозных традициях эти отношения мыслятся весьма различно. Так, христианская традиция настаивает на воплощенности Бога. Таким образом, особого рода трансцендентность Бога по отношению к созданному Им миру в этой традиции получает свое развитие: «Слово стало плотию» (Ин. 1: 14); «Бог явился во плоти» (1 Тим. 3:16). В Никео-Константинопольском Символе веры речь также идет о воплотившемся в мире Боге. В связи с этим позволю себе напомнить бахтинское убеждение: «Мир, откуда ушел Христос, уже не будет тем миром, где Его никогда не было, он принципиально иной» [Бахтин, 2003: 19]. Представляется, что это неотменимая воплощенность Слова позволяет теоретически обосновать тезис о неравномерности авторского присутствия в теле созданного им текста. О той же неравномерности присутствия Божия в мире свидетельствует и третья Ипостась Троицы.
Таким образом, в тексте произведения, в том числе и гоголевской поэмы, обнаруживаются все-таки фрагменты большей или меньшей воплощенности, большей или меньшей причастности автора созданному ему миру. Это можно назвать не однородным, а мерцающим присутствием автора в теле текста.
Эта неравномерность авторского присутствия в различных «моментах» целого является одним из важнейших условий личностного понимания. Известные бахтинские возражения против понятия «всепонимающего, идеального слушателя», который «не может внести ничего своего, ничего нового в идеально понятое произведение <…> не может иметь никакого избытка, определяемого другостью» [Бахтин, 1979: 386], думается, проистекают [166] из того же опасения обезличивания читателя, его превращения из неповторимой личности в деперсонифицированую абстракцию.
Тогда как подлинно другой потому и является незаместимым участником «праздника возрождения» того или иного смысла произведения, что за неизменной, раз и навсегда данной константной «структурой» текста угадывает ту или иную воплощенность Слова, обращенного не к абстракции «коллектива литературоведов» [Бахтин, 1979: 368], а к нему самому: он возрождает – в новом контексте – персоналистичный и актуальный именно для него забытый смысл произведения, но и этот персоналистичный смысл способствует воскресению слушателя как незаместимой личности в мире.
Это пасхальное воскресение читателя и происходит в финале «Мертвых душ». Как типологически то же самое пасхальное воскресение зрителей должно было происходить в финале «Ревизора» – после их, читателей, окаменения (смерти) вместе с героями. Именно в финалах мы как читатели, как сам Гоголь, как его герои должны непременно почувствовать себя уже «мертвыми душами» – чтобы получить надежду на наше последующее – соборное – воскресение. В этих финалах вненаходимость автора особым образом совмещается с его причастным видением, поскольку надеяться на воскресение, будучи совершенно вне художественной системы, вне соборного единства с героями, невозможно.
Если говорить именно о «Мертвых душах», то существенна и функция самого «дорожного снаряда» – тройки – в стремительном переходе авторского описания от земного к небесному. Дым («дымом дымится под ним дорога») – огонь («молния, сброшенная с неба») – «разорванный в куски воздух» могут быть осмыслены как стадии взлета-полета «снаряда» [VI, 246-247].
Преодоление земного подано автором как сверхприродное ускорение движения «снаряда» (от «летят версты, летят навстречу купцы на облучке своих кибиток, летит с обеих сторон лес…» [VI: 246] через бифуркацию к исчезновению земной конкретики: «летит мимо всё, что ни есть на земли» [VI: 247]). Этому же переходу от земного к небесному подчинена и звукопись: от «вороньего крика» – через «песню» – до «чудного звона» колокольчика.
Превращение тройки «в одни вытянутые линии, летящие по воздуху» [VI: 247], может быть понято как осуществление «Божьего чуда», смысл которого неясен «созерцателю», поскольку для приятия и осознания такого осуществления недостаточно быть лишь внешним зрителем, находящимся, как и автор, в позиции «вненаходимости», но необходимо быть внутренне причастным этому переходу.
Оттого-то и преодоление субъектно-объектных отношений и переход от гносеологии к онтологии – это духовная задача Гоголя, который осознавал невозможность собственной остраненности от акта письма: «Я иду вперед – идет и сочинение, я остановился – нейдет и сочинение» [XII: 332].
Отношение тройка Чичикова / тройка, «вся вдохновенная Богом» подобно отношению Россия / Святая Русь. В свою очередь горизонталь [167] тела России («ровнем-гладнем разметнулась на полсвета» [VI: 246]), в символе Руси-тройки, должна превратиться в соборную духовную вертикаль. Это преображение, изображенное, на мой взгляд, в финале «Мертвых душ», и является «Божиим чудом». Но это «чудо» имеет отчетливый пасхальный смысл и опирается на православную духовную традицию, согласно которой Русь, «вся вдохновенная Богом», оттого и является необходимым для мира «удерживающим», что вектор ее пути как Божий замысел о России («дают ей дорогу другие народы и государства») – идеал святости (святая Русь).
«Воскресение» как читателя, так и самого автора нельзя сциентистски «объяснить», так как в тексте нет жестких границ, отделяющих описание тройки Чичикова от описания «птицы-тройки», но можно «понять», однако такое понимание непременно сопряжено с верой в чудо воскресения, соборное воскресение. В таком случае неизбежно возникает вопрос: какова должна быть адекватная авторской интенции позиция литературоведа-гоголеведа? Должен ли он сам находится в позиции «вненаходимости», либо же эта позиция, напоминая остранение «наблюдателя» в финале первого тома поэмы, оставляет гоголеведа и вне чаемого автором воскресения «мертвых» душ? Во всяком случае не только нельзя чаять это воскресение, будучи совершенно вне системы, вне соборного единства с гоголевскими героями, но и, находясь в такой позиции, вряд ли возможно даже его корректно научно «описывать», интерпретировать и истолковывать.
Финальное вознесение Чичикова возможно точно так же, как и воскресение русского народа: ведь пасхальность России в «Выбранных местах…» соседствует с убеждением, что «никого мы (русские. – И. Е.) не лучше, а жизнь еще неустроенней и беспорядочней всех их. “Хуже мы всех прочих” – вот что мы должны всегда говорить о себе». Но острое чувство греховности в итоге приводит к ее преодолению, когда оказывается возможным «сбросить с себя все недостатки наши, все позорящее высокую природу человека», когда – во время пасхального торжества – «вся Россия – один человек» [VIII: 417]. Таким образом, структура «Мертвых душ», «Ревизора» и «Выбранных мест…» имеют пасхальный духовный вектор, который и определяет их поэтику. Позиция «вненаходимости», которая корреспондирует с некоторым литературоведческим этическим «отстранением» от созданного автором художественного мира, необходимого для «объективного» и в полном смысле «научного» анализа его текста, должна быть дополнена гуманитарным личностным пониманием, которое – в данном случае – невозможно без аксиологической причастности (сопричастности) тому, что было близко и дорого Гоголю и воплотилось в его художественных текстах. [168]
ЛИТЕРАТУРА
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
Бахтин М.М. Собр. соч. Т. 1. М., 2003.
Лосев А.Ф. Диалектика мифа. М., 2001.
Пришвин М.М. Собр. соч. Т. 8. М., 1986.
Ухтомский А. А. Интуиция совести. СПб., 1996.
Флоренский П.А. Статьи и исследования по истории и философии искусства и археологии. М., 2000.
Хализев В.Е. Интуиция совести (теория доминанты А.А. Ухтомского в контексте философии и культурологии XX века) // Русская литература: оригинальные исследования. Электронный источник: http://russian-literature.com/ru/publications/petrozavodsk/ve-halizev-intuiciya-sovesti-teoriya-dominanty-aa-uhtomskogo-v-kontekste-filosofii-i-kulturologii-xx-veka
Хализев В.Е. Опыты преодоления утопизма (О философии в России 1920-1940 гг.) // Постсимволизм как явление культуры. М., 1995. Вып. 1. С. 12-17. [169]
∗ Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 15-34-11091.
ОПУБЛИКОВАНО: Творчество Гоголя в контексте европейских культур. Взгляд из Рима. Семнадцатые Гоголевские чтения: сб. статей по материалам Международной научной конференции, Рим (Италия), 28 марта-2 апреля, 2017 г. М.; Новосибирск: Новосиб. изд. дом, 2018. — 240 с. С. 163-169.

4 комментария
Доброго вечера, Иван Андреевич ! Пишу с благодарностью за статью, удивительное дополнение к лекции, которую Вы читали сегодня( 1 курс заочного факультета, посрамленный Вами за пренебрежение к Вашим работам, а они являются прекрасным дополнением к лекциям, коих у нас и так ничтожно мало )
Удивительно для меня в этом то, что именно сегодня прочитала рассказ сокурсницы; завтра предстоит обсуждение на творческом семинаре. Как студент-первокурсник пытаюсь понять, что такое «Литературоведение», его школы , терминология, философия, рождённая литературой, и мой » личный взгляд», взгляд человека со сложившимся мировоззрением. Рассказ оказался созвучен мне, о том, что дорого, близко и знакомо; эмоции оказались настолько сильны, что «объективного», «научного» анализа не получилось . Вопрос мучил до прочтения данной статьи.
«Во всяком случае не только нельзя чаять это воскресение, будучи совершенно вне системы, вне соборного единства с гоголевскими героями, но и, находясь в такой позиции, вряд ли возможно даже его корректно научно «описывать», интерпретировать и истолковывать.»
С уважением,
Ваш студент
Как дополнение к лекционному курсу именно по 18 веку можно прослушать цикл из десяти бесед
(запись на радиостанции «Радонеж»). Здесь первая. На портале легко найти самим все десять.
Спасибо !
Ах, какая пасхальная статья!
Последние записи
Последние комментарии
Архивы