КАМЕННООСТРОВСКИЙ ЦИКЛ А.С. ПУШКИНА КАК ПАСХАЛЬНЫЙ ТЕКСТ: МИМЕСИС, ПАРАФРАСИС, КАТАРСИС. СТАТЬЯ ВТОРАЯ
«Exegi monumentum»:
пасхальное увенчание Александрийского столпа и проблема читательского катарсиса
В настоящее время в нашей филологии все еще доминирует тенденция рассматривать пушкинскую оду «Я памятникъ себѣ воздвигъ…» изолированно, либо в контексте всего творчества Пушкина, но, вопреки помете поэта «1836. Авг. 21. Кам. остр.», не как неотъемлемую часть Каменноостровского цикла. Ясно, что таким образом произведение уже словно бы изымается из «страстного» окружения, а тем самым и редуцируются его православные ценностные коннотации. Впрочем, как мы увидим далее, даже и непосредственно христианская образность, присущая этому тексту, зачастую редуцируется и переводится при его истолковании в какой-то иной, абстрактно-метафорический план. <...>
Как колонна на Дворцовой площади, будучи самым большим в мире цельным продуктом из розового гранита, увенчалась фигурой ангела с крестом, так и пушкинский цикл, написанный александрийским стихом, увенчивает произведение уже другой ритмической природы (но с лексической отсылкой к прежнему метру). <...>
Эйдос же победительности, который как в античном инварианте, так и в александрийском его каменном санкт-петербургском аналоге хотя и передается наглядно земной высотой колонны (отсюда и слово «выше», имеющееся и у Горация, и у Державина, и у Пушкина), в пушкинском парафрастическом тексте, перерастая заданную античностью земную перспективу в соответствии с логикой последовательности пасхального цикла, являет читателю иную победу — пасхальную победу над смертью.
Во всяком случае, в первой же строке пушкинского «Памятника» имеется отсылка («нерукотворный») к пророческим словам Христа (Мк. 14:58) о Его будущем воскресении <...> Да и петербургская колонна увенчивается все-таки не фигурой победительного Александра (как вандомская колонна— фигурой Наполеона), а ангелом и крестом. <...>
Слово «умру», возникающее в начале второй строки, не только актуализирует державинское «весь я не умру», буквалистски продолжая парафрастическую традицию переложения горацианского горацианского текста, но и, будучи введено в циклический контекст Страстной седмицы, переводит читательское внимание в иной план. Последовательно, по порядку в соседних текстах цикла осмысливаются смерть Иуды (с ее потусторонней «отменой»), смерть Христа (с пасхальными коннотациями), смерть других (с различными вариантами того, что с ними будет потом), наконец, уже не других, но в ряду этих других (включая Иуду, Христа, мертвецов столицы и усопших кладбища родового), собственная будущая смерть, смерть пиита: во всяком случае, выражения «мой прах» нет ни у Ломоносова, ни у Державина.
Ни в одном парафразе Горация как до Пушкина, так и после (ср., например, поэтические опыты Брюсова), нет никаких собственно пасхальных коннотаций, в них речь идет исключительно о сохранении в памяти потомства своей «части», поэтического инобытия своего человеческого «эго».<...>
«Милость къ падшимъ», как и прославление свободы, в редуцированной традиции истолкования пушкинского парафраза слишком часто воспринималась в малом времени его жизни. Есть ли в рассматриваемом тексте какие-то основания для этого? Да, есть: это определение поэтом своего века как жестокого: «…въ мой жестокiй вѣкъ». Пушкин, по-просветительски надеявшийся на постепенные преобразования и смягчение нравов, не мог предугадать тех мясорубок для «просвещенного» человечества, которым оно подвергнется в веке XX (если уже и пушкинский век — жестокий, то как тогда определить следующий за ним?), ровно так же, как и мы не можем знать, что еще сулит миру век XXI…
Если же мы будем рассматривать пушкинский «Памятник» как финальное стихотворение всего Каменноостровского цикла, а одновременно и в большом времени христианской истории, то четвертая строфа текста, наряду с оппозицией временного и вечного, приоткрывает и совсем другие смыслы. Тогда восславляемая здесь «свобода» непосредственно отсылает читателя к первому тексту цикла («иная, лучшая, потребна мнѣ свобода»); это не свобода «права» или «печати», а, в конечном счете, христианская свобода от греха. Падшие в этом контексте — это не только другие (у которых, по-видимому, в силу некоторого их самоослепления правами, «кружится голова»), но и в целом все люди, отягченные грехом, опять-таки, как и я сам, за кем «грѣхъ алчный гонится», — падший («и падшаго крѣпитъ невѣдомою силой»). Поэтому и в слове «милость» можно прозреть то, что, будучи выше Закона, заставляет вспомнить вызываемое молитвой христианское умиление («Но ни одна изъ нихъ меня не умиляетъ, / Какъ та»). В таком случае финальные глаголы второй и четвертой строк этой четвертой строфы «пробуждалъ» и «призывалъ», относимые поэтом к самому себе (и чем, собственно, он предполагает быть любезным народу), никак невозможно дистанцировать от другого пушкинского парафраза — молитвы Ефрема Сирина. Последнее его слово, обращенное к Богу — «о-живи» (то есть мертвое сделай живым, иными словами, воскреси <...>): слово «пробуждалъ» в контексте цикла становится словно бы мимесисом — со стороны поэта — божественному «оживи». В предыдущем тексте цикла речь идет о дремлющих мертвых: семантика пробуждения от смертного сна включает в себя не только сугубо земную прагматику, но и скрытые в слове «пробуждение» сакральные коннотации. <...>
Полностью читать ЗДЕСЬ.
Опубликовано: Проблемы исторической поэтики. 2021. Т. 19. No 2. С. 56–80.

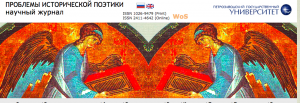
Добавить комментарий