ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР ДОСТОЕВСКОГО В СВЕТЕ ОППОЗИЦИИ «ЮРОДСТВО/ШУТОВСТВО» И ПОЗИЦИЯ БАХТИНА (НА МАТЕРИАЛЕ ФАНТАСТИЧЕСКОГО РАССКАЗА «КРОТКАЯ»)
Как я пытаюсь аргументировать на протяжении почти четверти века (1), то, что Бахтин характеризовал в поэтике Достоевского как карнавальную общность, в русской культурной традиции имеет все-таки четко выраженную полярность. Эти полюса и определяются понятиями юродства и шутовства.
«Фантастический рассказ» Достоевского является весьма репрезентативным материалом для конкретизации некоторых положений, имеющих методологическое значение. Но все-таки текст рассказа не просто «материал», объект для иллюстрации готовых теоретических построений, а потому нас будет интересовать и собственный смысл этого рассказа, который до сих пор, как представляется, не вполне прояснен.
В бахтинской категориальной системе, по-видимому, это мениппея с отчетливо выраженным карнавальным характером (2). Центральный [75] эпизод рассказа – самоубийство Кроткой с иконой Богородицы в руках, несомненно, глубоко карнавален и амбивалентен, согласно опять-таки научной оптике Бахтина. Да и сам герой — «закладчик, цитирующий Гёте» (24; 12), фигура также отчетливо карнавальная. Можно обратить внимание и на то, что в «Проблемах поэтики Достоевского» Бахтин практически целиком размещает авторское предисловие, специально это оговаривая: «Мы привели <…> предисловие почти полностью ввиду исключительной важности высказанных здесь положений для понимания творчества Достоевского» (3). В этом пункте следует с Бахтиным вполне согласиться.
Проблема же в том, что сам-то Бахтин полюса юродства и шутовства в карнавальной общности не разграничивал, поскольку его интересовала культурная девиация как таковая, как противоположность «официальной» картине мира. Однако девиантность не может быть абстрактным «отклонением»: она всегда та или иная. В русской христианской традиции шутовство соотносится с инфернальной сферой греха, тогда как юродство как бы «помнит» о своем родстве со святостью.
Обратившись непосредственно к тексту Достоевского, попытаемся ответить на следующие вопросы. Является ли «кроткое» самоубийство героини попыткой наказания героя-рассказчика, либо же это ее последняя отчаянная попытка спасти в нем образ Божий? Или же, быть может, он для нее является – в такой же степени, как и она для него, – удобным безличным материалом для собственного «реванша» в их метафизической битве с жизнью? Наконец, каково соотношение «Я» и «Ты»?
В последних достоеведческих исследованиях, где рассматривается «Кроткая» (4), при резкой несхожести истолкований имеются интересные частные наблюдения, однако же обозначенные выше вопросы практически не затрагиваются, равно как и не ставится центральная проблема, вынесенная нами в заглавие этой статьи.
Начнем с жанрового обозначения. Подзаголовок текста — «фантастический рассказ». Однако в первом абзаце автор дважды [76] называет его «повестью», во втором же абзаце – вновь «рассказом». С позиций жанровой строгости, это какое-то уж совсем вопиющее смешение. Замечу, что в третьем абзаце тот же автор, назвав свой текст «рассказом», «повестью» и опять «рассказом», утверждает, будто этот текст – «не рассказ» (24; 5). Возникает некая жанровая путаница. Которая, однако же, имеет свою собственную семантику. Если, конечно, считать «От автора» неотъемлемой частью художественного текста. Акцентирую это потому, что имеются попытки намеренно выйти за пределы собственно художественного текста, так сказать, разбавив его контекстом всего «Дневника писателя» (5). Эти попытки представляются не слишком убедительными по той причине, что «Дневник…» все-таки не является в строгом смысле тем «контекстом», который бы позволил обогатить (или переосмыслить) собственный смысл «Кроткой». Не случайно первая же фраза «От автора» — это извинение перед читателями «Дневника…»: «Я прошу извинения у моих читателей…» (24; 5).
Конечно, «Дневник…» в его «обычной» форме вполне может быть рассмотрен и как интертекст для текста «Кроткой», но следует – во избежание слишком вольной «игры» с этим интертекстом при интерпретации рассказа Достоевского – все-таки со всей настоятельностью подчеркнуть: связи между частями самого рассказа несоизмеримо сильнее тех аллюзий, которые неизбежно возникают, если мы рассматриваем рассказ как часть «Дневника…», либо же как «главу» всего творчества писателя. Можно сформулировать и по-другому: цитатность внутри самого текста «Кроткой» и (предполагаемая) цитатность, конструируемая при наложении текста рассказа на контекст «Дневника» (либо же на творчество Достоевского в целом), – это цитатности разных семантических уровней. «Перепрыгивание» с уровня на уровень, как бы не замечая этой принципиальной разницы, представляется методологически ошибочным, так как приводит к разрушению художественного целого и подменам собственного смысла «Кроткой» какими-то иными, произвольно навязанными толкованиями.
Однако вернемся к самому тексту рассказа. «Путаница», мною отмеченная, типологически точно такого же типа, как смешение понятий «фантастического», «реального» и «действительного» в первых двух абзацах текста. «Я озаглавил его (т.е. рассказ. – И.Е.) [77] «фантастическим», тогда как считаю его сам в высшей степени реальным». Но фантастическое тут есть действительно…» (24; 5). Хотя далее в тексте эксплицированный автор и даёт разъяснения насчет фантастической формы, но наличествует словесная игра: в первом же абзаце также употребляется слово «действительно», хотя и в другом контексте: «Но я действительно занят был этой повестью большую часть месяца» (24; 5).
Тем самым на уровне поэтики, на уровне построения самого художественного текста, не только размываются грани между «повестью», «рассказом», «не рассказом» и «записками», но и, несколько забегая вперед, между «действительным», «реальным» и «фантастическим» (6). Размываются как будто бы вполне «карнавально»: не только в потрясенном смертью Кроткой сознании Закладчика, но и во всем тексте Достоевского, в том числе, и в авторском обращении к «моим читателям». Таким образом, еще до самой рассказываемой истории читатель авторской волей переходит, если он следует авторской интенции, в такое же «смятенное» сознание, в каком изначально пребывает герой самой истории (и, одновременно, рассказчик): «Он в смятении и еще не успел собрать своих мыслей» (24; 5).
Художественная организация этой сумятицы в сознании читателя является несомненной рецептивной задачей Достоевского. Вопрос состоит лишь в том, преодолевается ли «смятение» к концу повествования или же этот умело организованный «карнавальный» хаос так и остается хаосом? Что касается самого героя, то здесь имеется абсолютно недвусмысленное авторское указание на преодоление «смятения»: Закладчик «ходит по своим комнатам и старается о-смыслить случившиеся», «собрать свои мысли в точку» (здесь в тексте рассказа кавычки, значит, слово «собрать» принадлежит речи и сознанию героя). Затем автор утверждает, что герой не только пытается «уяснить» дело, но и «мало-помалу уясняет» его и «собирает «мысли в точку» (24; 5). Обращу внимание и на то, что, строго говоря, с позиций нарративной логики выстраивания текста, герой не является еще в данном случае собственно Закладчиком, он так не называется в этом вступлении «От автора», он именуется здесь «мужем»: таким образом, перед нами отношения «он» и «она» представлены как «муж»/«жена». [78]
Во всем остальном тексте, который представляет собой повествование от первого лица, противоборствуют две противоположные тенденции: хаос и система. Что касается хаоса, в силу самоочевидности нет необходимости его характеризовать детально. По словам автора, его герой «несколько раз противоречит сам себе, и в логике, и в чувствах. Он и оправдывает себя, и обвиняет ее, и пускается в посторонние разъяснения» (24; 5). Сбивчивая форма рассказывания сама по себе эксплицирует смятение героя.
Композиционно этот хаос сознания преодолевается авторским структурированием. При этом, правда, возникает иного рода хаотичность, так сказать, второго порядка: «Глава первая. Кто был я и кто была она» (24; 6). Как будто заглавие главы принадлежит исключительно герою, ведь будь иначе, глава бы называлась так: «кто был он и кто была она»). Но не мог же Закладчик свой рассказ (и без того фантастическое «стенографирование») еще и сам же разбить на главы?
Например, когда Пушкин «Капитанскую дочку» подавал как «Записки Петра Андреевича Гринева», то он специально оговорил разграничение двух типов дискурса этого текста: «… мы решились издать ее (рукопись. – И.Е.) особо, приискав к каждой главе приличный эпиграф…» (7). Издать «особо» — в данном случае означает именно то, что не сам герой-рассказчик – Гринёв, а Издатель разбил рукопись Гринева на главы, озаглавил их и «приискал» эпиграфы (8). У Достоевского всё не так: герою приписывается даже и название глав. Вот еще один пример типологически близкого рассматриваемоу заголовка: «III. Благороднейший из людей, но сам же и не верю» (24; 12, а не — «cам не верит». – И.Е.).
Под «системой» же, в отличие от «стенографического» хаоса, понимается та рациональность, которая Закладчику представляется уместной при общении с его клиенткой, а затем – женой: «… я создал целую систему <…> Я должен был создать эту систему. <…> Система была истинная. Слушайте!» (24; 13). Эта «системность» Закладчика как раз и должна была ему обеспечить чаемую победу в поединке с Кроткой, а значит – в его сражении с миром: «поединок вот того самого вчерашнего труса, выгнанного за трусость товарищами». В этом смысле Закладчик – реваншист. При помощи «системы» [79] Закладчик должен реваншироваться — за свое поражение и, как ему представляется, глобальное унижение. Иными словами, «система» должна помочь перейти от карнавального «развенчания» к «увенчанию». В определенный момент, как герою представляется, «система» сработала: «… я победил! – и она была навеки побеждена!» (24; 22).
Как мы знаем, мысленное конструирование того или иного типа «системы» является постоянным искушением не только для многих героев Достоевского (идея Ротшильда, дилемма Раскольникова и т.д.), но и для самого писателя: достаточно, напомнить, например, «систему», позволяющую, как надеялся Достоевский, обеспечить ему «рецепт» выигрыша в рулетку.
Однако эта же «система» – даже и во время торжества Закладчика — овнешняет и сам предмет его любви (именно в момент искомого Реванша). Ведь фраза «я победил» (т.е. преодолел прошлый страх) имеет неожиданное продолжение, которое свидетельствует о поражении «другого»: «… и она была навеки побеждена». Здесь самое странное (и несколько зловещее) слово – «навеки», несомненно придающее «победе» Закладчика несколько инфернальный – в духе цитируемого им ранее Мефистофеля – смысл. Победа «Я» (к тому же со столь необычными коннотациями) здесь куплена ценой поражения «Ты», при котором «Ты» из личности превращается в «вещь» (9), лишается всякой личностной перспективы. «Ты» здесь, собственно, не «Ты» (не «Ты еси» (10) ), а всецело отчуждающее «она». Отсюда и слово «навеки». Далее Закладчик как будто догадывается об этой обратной стороне «поражения» Кроткой: «Она слишком потрясена и слишком побеждена» — думал я…» (24; 23). Герой по-своему любит Кроткую (отсюда фраза: «Разве не любил я ее даже тогда уже»? (24; 12)), однако любит не в качестве равноправного ему самому «Ты», а как «вещь», любит как средство само-утверждения.
Однако сложность и многомерность героев Достоевского в этом рассказе состоит еще и в том, что и Кроткая тоже по-своему реваншистка (11). [80]
В сущности, два раунда сражения Кроткой и Закладчика почти зеркальны. Ее «подноготная» ужасна: ее били, попрекали куском, намеревались продать. Поэтому Закладчик и подозревает, что «… у нее могла быть даже такая мысль: “Если уж несчастье и там и тут, так не лучше ли прямо самое худшее выбрать, т.е. толстого лавочника, пусть поскорей убьет пьяный до смерти!“» (24; 12). Однако после своего «поражения» Кроткая побеждает Закладчика: «Я целовал ее ноги в упоении и в счастье <…> целовал то место на полу, где стояла ее нога…» (24; 28). Закладчик «повторял поминутно»: «… только дай из угла смотреть на тебя, обрати меня в свою вещь, в собачку…» (24; 12). Замечу, что до этого Закладчик утверждал, что «… между нами <…> борьба, страшный поединок на жизнь и смерть» (24; 21). Рассказчик – своей «победой» над Кроткой – «отмстил всему <…> мрачному прошедшему» (24; 24). Но и Кроткая сначала своим «строгим удивлением» (24; 34), а затем и самоубийством также отомстила. В Булонь, «купаться в море», где, по излишне оптимистическим, но светлым мечтам Закладчика, вполне, так сказать, «мениппейно» «начнется всё новое» (24; 28), когда, казалось бы, искомый катарсис вполне достижим, или «из окошка» (24; 5)? Конечно, «из окошка»!
Замечу, что слово «Булонь», передающее нечто иное («всё новое») звучит в конце второй части второй главы («Пелена вдруг упала») как магическое заклинание пять раз подряд: «Главное, тут эта поездка в Булонь. Я почему-то всё думал, что Булонь – это всё, что в Булони что-то заключается окончательное. “В Булонь, в Булонь!”…» (24; 29). Однако вместо катарсического начала новой жизни на деле в художественном тексте Достоевского прозаический Булонь-Сур-Мер становится чем-то вроде Америки Свирдригайлова. Во всяком случае, в самом начале последующей части («Слишком понимаю») цифра пять уже непосредственно экплицирована в тексте, но коннотации здесь совсем другие, смертные: «… пять дней, всего только пять дней…» (24; 29), упреждающие решительное «Всего только пять минут опоздал», как называется четвертая часть. И когда герой восторженно восклицает «Там солнце, там новое наше солнце» (24; 30), то это «новое» солнце в сознании читателя следующего века вызывает, скорее, «Солнце мёртвых» И. Шмелёва. Впрочем, и в структуре рассказа самого Достоевского, если вспомнить финал всего текста, солнце коннотативно связывается именно со смертью («всё мертво, и всюду мертвецы» (24; 35)), а не с новой жизнью. [81]
Фабульно свое «поражение» (сначала тем, что закладывает образ, а после – что не может ни «наказать» Закладчика изменой, ни застрелить его) Кроткая трансформирует в несомненную собственную «победу» над ним, добровольно отказываясь от полноты любви, «возвращая билет», как ранее Закладчик отказался от выстрела: не захотела «… всецело любить, а не так, как любила бы купца» (24; 33).
Однако, хотя текст и называется «Кроткая», но в фокусе авторского видения сознание именно «мужа», а не «жены», его, а не ее. Поэтому важна та последовательность мыслей Закладчика-мужа и последовательность частей, которую выстраивает Достоевский своим текстом. Для карнавала подобная последовательность не принципиальна в силу значимого отсутствия эсхатологического завершения (всенародное карнавальное тело – бессмертно). В «Кроткой» же совсем не так.
Фабульно «в поединке на жизнь и смерть» сначала побеждает Закладчик, а затем она. Точнее, фабула такова, что прекрасный человек обижен миром, становится – назло миру – Закладчиком, чтобы – «отмстить всему моему мрачному, прошедшему». Затем он – в лице Кроткой – побеждает мир, она терпит поражение, а после уже побеждает она – хотя и ценой своей смерти, а он проигрывает («только пять минут опоздал»), и мучительно осмысляет причины этого итогового несомненного поражения.
Но такая картина складывается исключительно в самосознании героя, в его собственном «кругозоре», о котором много писал Бахтин, утверждая, будто «только в форме исповедального самовысказывания может быть, по Достоевскому, дано последнее слово о человеке, действительно адекватное ему» (12). В авторском же завершении героя наличествует иная перспектива. От цитаты из Фауста – к евангельскому тексту, от Мефистофеля, покупающего душу Фауста, к Христу, от духовной гибели – к воскресению («Люди, любите друг друга!» (24; 35)), от выморочного шутовства – к юродству. Именно это движение и «возвышает» сознание Закладчика, что подчеркивается нарративным развертыванием текста, но вектор этого пути задан уже вводной частью «От автора».
Кроткая ведь не только саму себя лишает жизни. Она еще и – вполне по-мефистофельски – этим самоубийством причиняет зло самому герою, наносит ему максимальный – и непоправимый – ущерб. [82] В сущности, это самоубийство – в момент ожидания им счастья, в момент его отказа от своей «системы», от молчания, от овеществления Кроткой — как второй, но уже результативный — выстрел. Она не смогла сделать в свое время первый, но этот второй – состоявшийся – «выстрел», не только в себя, но и в него, куда более меткий. Не предполагающий ответа. Ответить уже нельзя, никак нельзя (отсюда тоска мужа о «пяти минутах»: стрелявшая лишила себя жизни, так сказать «вернула билет» в Булонь, отказавшись навсегда от «нового»). Слово «навсегда», в гордыне своей мыслимое Закладчиком по отношению к своей прошлой «победе» над Кроткой, вполне уместно ведь именно в этом случае. «Навсегда», потому что в земной жизни как-то «переиграть» эту окончательность «навсегда» мужу теперь-то решительно невозможно.
Кроткая причиняет предельное горе герою, убивает и его этим неожиданным решением более результативно и изощренно, чем убила бы его – в состоянии аффекта — из револьвера во время его сна. В последнем случае она стала бы только обычной убийцей. Да к тому же убийцей спящего человека. А здесь совсем другое дело: воистину убийственная «кроткость», да еще с иконой Богоматери в руках, поэтому – на фабульном уровне – самоубийство Кроткой не просто наказание Закладчика, а именно Кара – для героя: именно так и можно его наиболее жестоким образом покарать, т.е. — в итоге – окончательно – «навсегда» — победить. Однако так происходит лишь на фабульном уровне, на уровне этических поступков героев. А на эстетическом (т.е. авторском) уровне – совсем иначе.
Как же – «иначе»? Главный тезис этой работы состоит в том, что что фантастический рассказ Достоевского (и это еще одна коннотация выделенного слова) представляет собой не сражение героя и героини, которое исчерпываются «победой» и/или «поражением» его или ее, не карнавальный круговорот «увенчания/развенчания», а подчинен выстраиванию весьма определенного вектора движения, уже отчасти мною охарактеризованного выше, — от смерти к воскресению.
Закладчик уже был духовно мертв до встречи с Кроткой, ибо шутовской «бунт» подпольного человека овнешняет, т.е. омертвляет его самого, затем и Кроткую, находящуюся в отчаянном положении, он попытался превратить в «объект», а тем самым умертвить духовно: осмысление отношений между ними сквозь призму «победы» и «поражения» свидетельствует именно об овнешнении героини. Неудачный бунт Кроткой и представляет собою попытку вырваться из этого овнешнения, в свою очередь, «победить» Закладчика. Сами же [83] категории «победы» и «поражения» — овнешняющие категории, поскольку базируются – в данном случае — исключительно на само-утверждении, превращении «другого» из «личности» в «вещь».
Однако героиня, «победив» в итоге Закладчика, не вынесла сама своей «победы», не была сама готова к подлинной – личностной – любви, где нет – ни для другого, ни для себя самого — «победы» или «поражения». Есть доля вины и самого Закладчика, которую он вполне осознает, признает и формулирует в финале: «измучил я ее – вот что!» (24; 35). Однако в конце концов именно ее смерть становится – в избытке авторского видения, но не на фабульном уровне! — такого рода потрясением, которое и вызывает к жизни самого рассказчика: она гибнет – не в своем собственном эгоистическом самоутверждении как героини, но в авторском эстетическом «задании», проявляющемся в выстроенности его художественного текста, для того, чтобы воскрес мертвый душою герой. Гибнет для того, чтобы он перестал быть Закладчиком, став страдающим мужем. Страдающим не из-за ущемленного собственного самолюбия, но из-за любви к жене, которая уже не «она», а «Ты». И он становится им. Так проявляется в этом произведении пасхальный архетип русской литературы (13). В итоге «она» из объекта само-утверждения Закладчика преображается не только в избытке авторского видения, но и в кругозоре героя в субъект — в «Ты». Именно это преображение «вещи» в «личность» и символизирует воскресение самого героя, именно оно-то, по словам автора, «неотразимо возвышает его ум и сердце» (24; 5).
Согласно авторской установке, заявленной с недвусмысленной определенностью, – а потому мы как читатели и исследователи не вправе игнорировать это утверждение, если желаем оставаться в спектре адекватных прочтений шедевра Достоевского, – ряд воспоминаний рассказчика не только «неотразимо приводит его наконец к правде» (24; 5), но и правда «возвышает его ум и сердце». Возвышает, обратим особое внимание, не только «ум», но и «сердце». Также сказано, что герою «истина открывается» (24; 5). Достоевский указывает и на вполне определенный вектор упорядочивания хаоса – от «беспорядочного начала» к этой самой «истине».
Однако эта «истина» в финале утверждается не буквалистски-законнически, не обезличенно, но в традициях именно юродства, а не шутовства. Если вначале Закладчик, цитируя Гёте, как бы надевает на себя колпак шута (Закладчик- как шутовская ипостась Мефистофеля), [84] то затем в его речи сквозит уже юродивое косноязычие: «Люди, любите друг друга» — кто это сказал? чей это завет?» (24; 35). Каждому читателю, во всяком случае эпохи Достоевского, хорошо известно – Кто именно сказал и чей Завет. Но в своем обретенном юродстве муж как будто «забывает» даже и это (отсюда вопросы).
Он, в сущности, готов, как и другой «юродивый» – князь Мышкин, отказаться и от роли плотского мужа, утверждая в финале: «И если б и другого полюбила, — ну и пусть, пусть! Ты бы шла с ним и смеялась, а я бы смотрел с другой стороны улицы…» (24; 35). В этом также есть наследование традиции юродства. Как и в радикальном отвержении всего земного: «Что мне теперь ваши законы? К чему мне ваши обычаи, ваши нравы, ваша жизнь, ваше государство, ваша вера? <…> я скажу, что я не признаю ничего» (24; 35). Это отвержение – «теперь» — обезличенного законничества (девятикратный повтор «ваши» подается в тексте таким образом, что начинают и завершают этот ряд овнешняющего и отчуждающего чужого=«вашего» именно «ваши законы») текстуально непосредственно предшествует следующему абзацу, в котором, напротив, овняшняющее отчуждение сменяется персоналистской акцентуацией: впервые «она» преображается в «ты» (и это «ты» звучит пять раз, здесь словно бы пытаясь превозмочь прежнее «только пять минут опоздал»).
Таким образом, в трех завершающих абзацах рассказа последовательно и контрастно представлены радикальное отвержение овнешняющего «чужого» законничества (в первом), персоналистская акцентуация «Ты еси!» (во втором), в последнем же абзаце мы видим юродивое отвержение уже не только «недолжного» социума, но и природной «косности» — в жажде иной, личностной, сверхприродной, благодатной Истины (но такой Истины, которая без другого «Ты», без Христа, перестает быть, собственно, самой собою, являясь подменной, ненастоящей «истиной»: солнце вовсе не «живит вселенную», хотя и так «говорят», если нет при этом любви (14), той самой любви, «завет» которой дал людям Христос). Неспособность же «любить друг друга» и делает «мертвецами» как солнце («разве оно [85] не мертвец?» (24; 35)), так и не откликающихся на отчаянный вопль мужа, пытающегося экстатично преодолеть свое уединение («и никто не откликается» (24; 5)), да и людей в целом («всюду мертвецы» (24; 5)).
Юродивый «ругается миру» именно потому, что мир не просто «во зле лежит», но еще и духовно мертв, полагая, что он вполне жив. Эти «мертвецы», которых «всюду» видит – теперь – муж, такие же, каким и он был ранее, до того, как «она» стала для него «ты». Юродство в русской традиции вовсе не воюет с «недостатками» этого мира, как долгое время принято было считать в отечественной медиевистике даже и весьма крупными исследователями, но само состояние здешнего падшего мира юродивые не склонны считать «нормальным»: в конце концов, юродство в особой эксцентричной форме пытается именно что восстановить «норму», но такую «норму», с позиции которой возможно особое прозрение («всюду мертвецы»), дабы только и стало возможно их пасхальное воскресение.
Структурно же это движение, мною охарактеризованное, символизируется – на уровне построения текста – двумя крайними цитатами: вначале герой, будучи еще вполне Закладчиком, цитирует Мефистофеля, а в финале, став Мужем, и отнюдь не в плотской, но юродивой ипостаси, – слова Христа. [86]
ПРИМЕЧАНИЯ
1. См.: Есаулов И.А. Юродство и шутовство в русской литературе: некоторые наблюдения // Литературное обозрение. 1998. № 3; Esaulov I. Two Facets of Comedic Space in Russian Literature of the Modern Period: Holy Foolishness and Buffoonery // Aspects of Humour in Russian Culture. London: Anthem Press, 2004; Есаулов И.А. Русская классика: новое понимание. Изд. 3. СПб., 2017, глава «Юродство и шутовство в русской литературе», а также II международный семинар-дискуссию в Балтийском федеральном университете 5-6 июля 2012 г. «Карнавал/карнавализация, шутовство/юродство», целиком посвященный обсуждению важнейших для нас категорий, обозначенных в заглавии работы.
2. См.: Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского // Бахтин М.М. Собр. соч. В 7 т. М., 2002. Т. 6. С. 128-137.
3. Бахтин М.М. Там же. С. 65. То же самое мы находим и в бахтинской книге 1929 г. «Проблемы творчества Достоевского».
4. См.: Юрьева О.Ю. Мотив поединка в рассказе Ф.М. Достоевского «Кроткая» // Достоевский и современность: Материалы XIX Международных Старорусских чтений. Великий Новгород, 2005; Юрьева О.Ю. Бунт против тирании и тирания бунта в рассказе Достоевского «Кроткая» // Достоевский и мировая культура. № 21. СПб., 2006; Касаткина Т.А. Художественные тексты в составе «Дневника писателя» Ф. М. Достоевского : контекстный анализ // Вопросы литературы. 2011. № 5.
5. См., например: Касаткина Т.А. Указ. соч. С. 285-317.
6. См.: Есаулов И.А. Фантастическое — чудесное — реальное в поэтике и прозаическая реальность литературоведения: Постановка проблемы // Проблемы исторической поэтики. 2016. Вып. 4: Поэтика фантастического. С. 53-71. Электронный источник: http://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1482751973.pdf
7. Пушкин А.С. Полн. собр. соч. В 10 т. М., 1964. Т. 6. С. 541.
8. О художественном смысле именно такой структуры текста см.: Есаулов И.А. Точка зрения Издателя в «Капитанской дочке» // Поэтика русской литературы. Сб. статей к 70-летию Ю.В. Манна. М., 2001.
9. О личности и вещи как ценностных пределах см.: Бахтин М.М. Собр. соч. Т. 6. С. 432-433.
10. Значимость этого «Ты еси» в художественном мире Достоевского в свое время, как известно, глубоко раскрыл Вяч. Иванов (см.: Иванов Вяч. Родное и вселенское. М., 1994. С. 282-311).
11. В других словесных формулировках этот психологический момент тонко отмечен в цитируемой мной выше работе О.Ю. Юрьевой. Полемика Т.А. Касаткиной с основными положениями этой работы представляется мне недостаточно аргументированной, поскольку осталась без должного внимания сама внутренняя логика исследовательской интерпретации. Однако и в работе Юрьевой, и в работе Касаткиной недостаточно учитывается главная нарративная особенность текста Достоевского: всё, что описывается (за исключением части «От автора»), изображается глазами именно и только Закладчика, мужскими глазами. Если мотивы собственного поведения он сам излагает весьма детально, хотя и «в смятении», то о мотивах поведения Кроткой, изображаемой в кругозоре видения потрясенного ее самоубийством мужа, мы можем только догадываться, здесь гораздо большее поле психологической неопределенности.
12. Бахтин М.М. Собр. соч. Т. 6. С. 66.
13. См.: Есаулов И.А. Пасхальность русской словесности. М., 2004.
14. Ср. сочувственно цитируемые А.Ф. Лосевым, наследующим в данном случае традицию юродства, рассуждения В.В. Розанова: «Заботится ли солнце о земле? Ни из чего не видно: оно “притягивает прямо пропорционально квадратам расстояний”. Таким образом, первый ответ о солнце и земле Коперника был глуп. Просто глуп. Он “сосчитал”. Но “счет” в применении к нравственному явлению я нахожу просто глупым. Он просто ответил глупо, негодно. С этого глупого ответа Коперника на нравственный вопрос о планете и солнце началась пошлость планеты и опустошение Небес» (Лосев А.Ф. Диалектика мифа. М., 2001. С. 166).
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №18-012-90043 («Анализ, интерпретации и понимание как методологические установки в изучении наследия Достоевского»).
© Есаулов И. А., 2018
ОПУБЛИКОВАНО: Достоевский и мировая культура. Альманах. № 36. СПб: Серебряный век, 2018. С. 75-86.

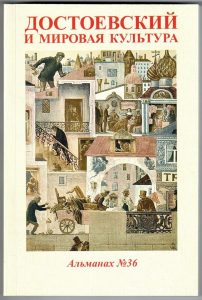
5 комментариев
Действительно, «о мотивах поведения Кроткой, изображаемой в кругозоре видения потрясенного ее самоубийством мужа, мы можем только догадываться, здесь гораздо большее поле психологической неопределенности…» . И может быть, здесь стоило бы учитывать, что Кроткая еще почти ребенок. Это обычно игнорируется, и не знаю, важно ли это было для Достоевского. Но может быть, здесь и важна ее незрелость, нетерпение.. и бунтарство ее очень подростковое… Это одно.. а в целом, мне тоже по какому-то прочтению казалось, что герой пробуждается для воскресения….. но если оставаться в пределах повести, то такой интерпретации препятствуют, мне кажется, следующие слова в финале: «Пусть судит меня ваш судья, пусть приведут меня в суд, в ваш гласный суд, и я скажу, что я не признаю ничего. Судья крикнет: «Молчите, офицер!» А я закричу ему: «Где у тебя теперь такая сила, чтобы я послушался? Зачем мрачная косность разбила то, что всего дороже? Зачем же мне теперь ваши законы? Я отделяюсь»… здесь открывается и другая перспектива : перспектива ухода в подполье… из которого тоже возможен выход, конечно… но это за пределами повести, так же собственно, как и в «Записках из подполья» (почему мне не близка интерпретация Т.А.Касаткиной, по мнению которой здесь тоже намечен путь к воскресению).. В «Сне смешного человека» же, напротив, он намечен в пределах самого рассказа «И пойду, и пойду»… а в «Кроткой» (как и в «Записках..», мне кажется).. — это все-таки один из вариантов..
Текстом произведение не ограничивается, есть еще читательское сознание (как часть произведения). И для того, в частности, я обосновывал понятие спектра адекватности, чтобы, с одной стороны, разграничить интерпретации, заведомо противоречащие реалиям текста, постмодернистской «игры» с ним, но, с другой стороны, чтобы избежать картезианской установки, согласно которой правильным «может быть лишь одно». Перспектива «ухода в подполье» не «открывается» именно в финале: Закладчик и был подпольным человеком, а вот перспектива (в юродивой парадигме) воскресения действительно открывается, как я постарался показать, лишь в финале. Но, конечно, только лишь перспектива (однако даже и история более очевидного «перерождения» Раскольникова, хотя и намечена в эпилоге, также вынесена за пределы самого текста — как гипотетическая возможность, но не гарантия). «Споры» же какое именно из различных прочтений («интерпретаций»), находящихся внутри спектра адекватности, более, так сказать, адекватное, более «правильное», кажутся мне абсолютно бесперспективными, хотя и наиболее горячими.
Согласна, что был подпольным и что переживает глубокое потрясение в финале.. Глубокое потрясение переживает и подпольный в результате «встречи» с Лизой.. а вот состоится ли преображение, по-моему, в обоих повестях— это скорее вопроос, на который м.б. два ответа: преображение или снова подполье.. И представляется. что оба ответа — в «спектре адекватности»..
… вот, в данном случае, и обосновывается именно «пасхальное» воскресение — но в особом художественном измерении, эстетическом, не сводимому к прагматике прозаического мира (этическому кругозору самого героя). Возможны, разумеется, и иные интерпретации.
Спасибо!!! Дождались!…
Ах, какая замечательная статья к Пасхе! До слез… И это тоже к вопросу о методологии интерпретации и понимания: когда такого качества работы читаешь, сердце вздрагивает так же, как и во время прочтения самого произведения…
СПАСИБО!!!
Последние записи
Последние комментарии
Архивы