«Моя родина — “Капитанская дочка”»: Пришвин как читатель
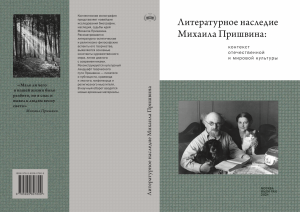
6 сентября 1933 года Пришвин записывает в своем Дневнике: «Наконец-то дожил до понимания “Кап. дочки”» и тоже себя: откуда я пришел в литературу <...> И теперь читаешь и как будто у себя на родине… именно это родина; моя родина не Елец, где я родился, не Петербург, где наладился жить, то и другое для меня теперь археология, а Петербург даже и официальное имя свое потерял; моя родина, непревзойденная в простой красоте и, что всего удивительней, органически сочетавшейся с ней доброте и мудрости человеческой, – эта моя родина есть повесть Пушкина “Капитанская дочка”» [Пришвин, 2009, с. 298]. Настоящая [262] работа представляет собой опыт осмысления этой дневниковой записи писателя.
Что прежде всего приковывает наше внимание сегодня в этой записи? Конечно, исторический контекст. Конец двадцатых и начало тридцатых годов XX века — время, когда с новой силой истреблялось то, что для множества русских людей, включая и Пришвина, являлось – в нескольких поколениях — их родиной. 5 декабря 1931 г. взорван Храм Христа Спасителя. Мы знаем серию фотографий Пришвина об этом символическом событии. Как формулирует современная исследовательница, «по исторической памяти, являющейся основой этнической, культурной традиции и самосознания русского народа, предложено было нанести сокрушительный удар из всех оружий. Главный историк страны доказывал, что, с точки зрения “пролетарской диктатуры в мировой постановке”, в истории России сплошное дикарство, начиная с ее крещения (“перемена обряда”), православной веры (“дикари”), летописей (“сказки” для “плохих исторических книжек”), “Слова о полку Игореве” (“придворная поэма”) и кончая ее ложными героями (“Минин и Пожарский”) и “ложными” событиями (Отечественная война 1812 года)» [Корниенко, с. 46]. К тому времени уже десяток лет как запрещено систематическое преподавание в школе как курса русской литературы, так и русской истории [Есаулов, 2017, с. 34-37; Есаулов, 2022, с. 7-10].
По Дневнику Пришвина можно проследить как именно тотально переформатировались все прежние формы жизни и культуры, так трансформировалась русская повседневность, чтобы стереть с карты само имя Россия* , как заменялись «своими» прежние русские топонимы, как дискредитировалась былая русская история, на государственном уровне отвергались русские победы, но праздновались русские поражения. [263]
Эти тенденции закреплялись в общественно значимых изданиях. Например, в Малой советской энциклопедии cоответствующего периода размещена статья будущего академика АН СССР, получившей три ордена Ленина М.В. Нечкиной, в которой рядом со словом Россия уточняющая буква «б» (бывшая). Эта энциклопедическая статья замечательно точно фиксирует государственную политику по отношению к тому, что Пришвин назвал своей родиной: «<...> выражения “история России”, “русская история” прикрывают и оправдывают колониальную политику угнетения и насилия царского самодержавия над нерусскими народностями; поэтому само название “русская история” насыщено великодержавным шовинизмом и не может быть принято марксистской историографией. “Термин русская история есть контрреволюционный термин, одного издания с трехцветным флагом” (М.Н. Покровский). Первая Всесоюзная научная конференция историков-марксистов <…> окончательно отвергла название русская история и ввела в широкий оборот термин “история народов СССР”» [Нечкина, c. 427–428].
А.И. Солженицын с полным основанием формулирует: «<...> все 20-е годы <…> во всех областях культуры последовательно вытравлялась вся русская традиция и русская история, как бывает разве только при оккупации…» [Солженицын, c. 135].
Л.Я. Гинзбург со своей стороны, в сущности, подтверждает эти выводы: «<…> у нас (в СССР. — И.Е.) сейчас допускаются всяческие национальные чувства, за исключением великороссийских. Даже еврейский национализм, разбитый революцией в лице сионистов и еврейских меньшевиков, начинает теперь возрождаться политикой нацменьшинств. Внутри Союза Украина, Грузия фигурируют как Украина, Грузия, но Россия — слово, не одобренное цензурой…» [Гинзбург, c. 153–154].
В том же году, когда Пришвин записывает цитируемые выше слова о своей родине, о. Павел Флоренский обвиняется в организации «националистической, фашистской организации, именовавшей себя «Партией Возрождения России (sic! – И.Е.)», которая, по формулировке тех, кто сфабриковал подобные [264] обвинения, ставила «своей задачей установление фашистского строя в стране» (дело № 2886 о националистической фашистской организации). В числе прочего «организации» инкриминировалось создание «республики с сильным национально-фашистского типа правительством, опирающимся на Православную Церковь» (cм.: [Флоренский, c. 45–66]).
Как подчеркивает В.З. Паперный, еще и «в 1934 года слова «Россия» и «русские» все еще несли на себе груз отрицательных значений» [Паперный, c. 83]. Как нетрудно заметить, упомянутые выше писатели и исследователи (а можно было бы подобные цитаты продолжить) совершенно солидарны между собой в определении доминанты этого времени.
Так что дневниковую запись Пришвина можно верно понять, если мы реконструируем тот контекст раннесоветских энтузиастических десятилетий, когда слово «родина» (если оно не сопровождалось определением «советская»), как и слово «русский» имело отчетливо негативные коннотации. Находясь в подобной атмосфере писатель («наконец-то», как он уточняет) «дожил до понимания» пушкинской повести. Он понял «Капитанскую дочку» именно тогда, когда уничтожалась не только его, но и пушкинская «родина», которая объявлена была «бывшей», подлежав замене на что-то кардинально иное (также «бывшими» назывались люди, которые были накрепко связаны именно с этой – пушкинско-пришвинской – родиной). В этих условиях, опознать свою подлинную родину (а не то, что предлагается вместо нее) стало возможно, обращаясь именно к Пушкину («и как будто у себя на родине»), а не к той советской повседневности, которую и описывал в своем Дневнике Пришвин.
Пришвина часто – и вполне справедливо — относят к «серебряному» веку, он его законный, так сказать, представитель. Однако – обратим внимание – своего «родиной» Пришвин считает все-таки не салон Гиппиус-Мережковского, где он и получал соответствующие советы, а, судя по цитируемой записи, русский «золотой» век. [265]
Если использовать известную терминологию М.М. Бахтина, можно сказать, что возникает оппозиция: «малое время» жизни писателя (тот же «серебряный» век или большевистские десятилетия: по-видимому, они как-то глубинно связаны, одно породило другое, отсюда и пришвинское «большевик из Балаганчика») и «большое время» [Бахтин, 1986, c. 347–354], где можно почувствовать себя «дома» (вспоминая известные бахтинские строки о Рабле и народной культуре) [Бахтин, 1990, c. 7]. Однако идея самого бахтинского «большого времени» представляется несколько абстрактной. Существуют типы культур, в которых отсутствует понятие личности, как оно представлено, во всяком случае, в христианской культуре. Они от этого не становятся менее значительными, менее, что ли, уважаемыми. Но представление о личности там или отсутствует, или, во всяком случае, значительно редуцированно. Как настаивает А.Ф. Лосев в беседе с В.В. Бибихиным, приводя примеры «от противного», «…только в Европе есть личность» [Бибихин, с. 16]. Если говорить о русской культуре, то встает вопрос: можно ли объединить большое время русской культуры и «большое время» как таковое, если в одном случае обостренно чувствуется личностность, весьма утонченно — в понятии соборности (вспомним акцент Вяч. Иванова на «Ты еси»)** , а в другом — оно порой вообще отсутствует? О каком общем «большом времени» тут можно говорить? Поэтому то, что Бахтин называл большим временем, по отношению к отечественной культуре, по-видимому, более уместно трактовать как большое время русской христианской культуры. И в подобной перспективе «Капитанская дочка» может опознаваться именно как родина «непревзойденная в простой красоте, в сочетавшейся с нею доброте и мудрости».
Во всяком случае, сам Пришвин в дневниковой записи от 15 января 1921 г. поставил задачу (им самим не реализованную) [266] «рассмотреть христианское отношение русской литературы (Гоголь, Достоевский, Толстой, Тургенев)» [Пришвин, 1995, c. 129].
Приблизительно в это же время А.Ф. Лосев, обращаясь к «относительным мифологиям» (одной из которых является строительство «социализма»: впрочем, и «капитализм» также является производным от той же самой «относительной» мифологии), противопоставляет им мифологию подлинную, «абсолютную»: для Лосева это «византийско-московское православие» [Лосев, с. 445-447].
Исходя из этого, бахтинское разграничение большого и малого времени можно соотнести с понятиями абсолютной и относительной мифологий, которые представлены в «Диалектике мифа» Лосева. Иными словами, большое время русской культуры зиждется на понятии абсолютного мифа. В таком случае и смысл событий малого времени русской культуры становится более ясным, если мы соотносим их с этим абсолютным мифом, рассматриваем в перспективе абсолютного мифа. Одни и те же события в относительной мифологии малого времени могут восприниматься так и этак (согласно как Лосеву, так Бахтину, более или менее искаженно), а в перспективе большого времени русской культуры, с ее категорическим постулатом Воскресения (см.: [Иванов, c. 360–372]), – совершенно иначе. Одновременно с этим и бахтинское малое время может быть лучше понято, если мы воспользуемся теми характеристиками относительных мифологий, которые использовал Лосев. В сущности, в Дневнике Пришвина (в том числе, и в той записи, которая явилась предметом преимущественного внимания в данной работе) мы видим характерное – и весьма травматическое — отражение и осмысление тех реалий, которые довелось пережить Пришвину и стране в 20-30 годах прошлого века, но такое отражение, которое позволяет «наконец-то» опознать для себя – в большом времени русской культуры — главное в этой культуре, а также жизни.
Хотя, разумеется, сам Пришвин как лосевскую, так и бахтинскую терминологию и не употреблял, однако же [267] в изучении особенностей его Дневника было бы продуктивно эксплицировать разницу между «малым» временем его жизни и большим временем русской истории и культуры. Сам писатель остро нуждался в читателе-современнике, ему было крайне важно, чтобы его прочли «новые люди». Мы знаем, что многие его произведения были – после 1940 г. – отвергнуты цензурой. И знаем, как болезненно к этому относился Пришвин. Если бы его собственное «малое время» не интересовало вовсе, он бы, по-видимому, и не вел ежедневный Дневник. В котором самое интересное, может быть, это такие черты эпохи (например, особенности московского градостроительства 20-30-х годов прошлого века — в сравнении с русской традицией), которые навсегда зафиксированы именно в Дневнике писателя.
Но, с другой стороны, Пришвин вполне понимал, что главное его произведение – это именно Дневник. Однако этот Дневник прочесть в их малом времени современники писателя уж, во всяком случае, никак не могли. Значит, Пришвин писал для какого-то другого читателя, поверх своего «малого времени». Может быть, для нас. Или не для нас: может быть, мы еще не способны вполне понять Пришвина. Возможно, наши дети или внуки – именно в большом времени русской культуры – способны будут оценить вполне этот Дневник. [268]
Примечания
* «Даже имени Россия больше нет» с горечью отметил уже в 1951 г. оказавшийся по ту сторону «железного занавеса» русский писатель безукоризненной репутации [Зайцев, c. 208].
** Ср. пришвинскую дневниковую запись от 7 октября 1908 г.: «Соборность, общественность есть лишь результат более утонченной личности» [Пришвин, 2007, с. 175].
Список литературы
Источники
Гинзбург Л. Записи 20–30-х годов // Новый мир. 1992. No 6. С. 144–186.
Зайцев Б. В пути. Париж: Возрождение,1951. 209 с.
Иванов В.И. Родное и вселенское. М.: Республика, 1994. 427 с.
Лосев А.Ф. Диалектика мифа. М.: Мысль, 2001. 303 с.
Пришвин М.М. Ранний дневник. 1905–1913 / подгот. текста Л.А. Рязановой, Я.З. Гришиной; коммент. Я.З. Гришиной; указат. имен Т.Н. Бедняковой. СПб.: Росток, 2007. 800 с.
Пришвин М.М. Дневники. 1920–1922 / подгот. текста Л.А. Рязановой; коммент. Я.3. Гришиной, В.Ю. Гришина. М.: Московский рабочий, 1995. 334 с.
Пришвин М.М. Дневники. 1932–1935 / подгот. текста Я.3. Гришиной; коммент. Я.3. Гришиной. СПб.: Росток, 2009. 1008 с.
Солженицын А.И. Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни // Из-под глыб. Париж: YMCA-Press, 1974. С. 115– 150.
Флоренский П.А. Предполагаемое государственное устройство в будущем: сборник архивных материалов и статей. М.: Городец, 2008. 205 с.
Исследования
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1986. 445 с.
Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.: Худож. лит., 1990. 541 с.
Бибихин В.В. Алексей Федорович Лосев. Сергей Сергеевич Аверинцев. М.: Ин-т философии, теологии и истории св. Фомы, 2004. 415 с.
Есаулов И.А. «Архискверный Достоевский» в малом времени советско-постсоветских десятилетий и в большом времени русской культуры // Ф.М. Достоевский: pro et contra, антология. СПб.: РХГА, 2022. Т. 2: Советский и постсоветский Достоевский. С. 7–24.
Есаулов И.А. Рецепция отечественной классики в период русской Катастрофы // Русская классика: pro et contra. Железный век. Антология. СПб.: РХГА, 2017. С. 9–42.
Корниенко Н.В. «Нэповская оттепель»: становление института со- ветской литературной критики. М.: ИМЛИ РАН, 2010. 498 с.
Нечкина М.В. Россия // Малая советская энциклопедия. М.: Сов. эн- циклопедия, 1930. Т. 7. С. 427–428.
Паперный В. Культура Два. М.: НЛО, 1996. 412 с. [269]
ОПУБЛИКОВАНО: Есаулов И.А. «Моя родина — “Капитанская дочка”»: Пришвин как читатель // Литературное наследие Михаила Пришвина: контекст отечественной и мировой культуры / ред.-сост. Е.Ю. Кнорре, А.Г. Гачева. М: ИМЛИ РАН, 2024. С. 261-269
Читать в PDF: Пришвин читатель

One Comment
Да уж, Пушкин как никто из русских писателей лучше отразил Россию, показав во всей полноте ее облик. Воистину — энциклопедия русской жизни.