РОССИЯ ШМЕЛЁВА КАК ИДЕАЛ И КАК ПРОБЛЕМА
Если отрешиться от навязанного нам почти на столетие ложного и предвзятого представления о классической русской литературе как литературе преимущественно «критического» реализма, то в этой литературе без всякого труда можно заметить совсем другой образ России, нежели он преподносился в изучающих отечественную литературу академических институтах и образовательных заведениях. Именно об этом – другом — образе и писал Иван Шмелев в цикле своих критических статей и воплощал его в своих вершинных художественных произведениях: «Лете Господнем» и «Богомолье». И в самом деле, ведь даже пушкинский «Медный всадник», который принято до сих пор преимущественно трактовать в традициях столкновения «маленького человека» и государственной целесообразности, начинается со слова «люблю»:
«Люблю тебя, Петра творение,
Люблю твой строгий, стройный вид».
В «Выбранных местах из переписки с друзьями» Н.В. Гоголь, поставив композицией своей книги рядом главу о русской поэзии с главой о праздновании Пасхи русскими людьми, надеялся на то, что наступит время, когда именно русская литература («наша поэзия»), «…ударивши по всем струнам, какие ни есть в русском человеке, <…> вызовет нам нашу Роccию, нашу русскую Россию» (1). Однако в большом времени русской культуры стало ясно, что эта Россия, которую так жаждал узреть в «нашей поэзии» Гоголь, уже была явлена в ней. Не только в пушкинских стихах, в его поэмах, в повести «Капитанская дочка» и в романе «Евгений Онегин» мы видим родную для нас Россию, но и в поэме «Мертвые души». Отрешившись от революционно-демократической мифологии (2), которая стала – тоже почти на целое столетие — фундаментом советской истории русской литературы, мы можем уже с уверенностью констатировать, что и самой гоголевской поэме – вместо надуманного «критического» реализма наличествует особая «праздничность бытия», что не только в «Лете Господнем», но уже и в том мире, который «вызывает» нам Гоголь можно – при соответствующей, сочувственной нашему отечественному космосу, оптике прозреть «царство изобилия»: «тут есть всё, и всего тут – без числа»; есть «знаменитые страницы», где Гоголь этой реальности дает «прямо перерасти в ликующий гимн жизни с ее неизведанными широтами и неизведанными судьбами; все бремя русского бытия Гоголь выносит в свет мирового целого. Народ как единое целое (“Русь”) летит в вольным просторах; и тут тоже своя полнота…» (3).
Что же побуждает ту Родину, которая появляется и на страницах «Лета Господня», и в поэме Гоголя, и в пушкинском творчестве принимать – как это стало проявляться чаще и чаще в связи с призывами не допускать «идеализации» исторической России — не за реальность, но за ее приукрашивание? Экстравагантная ли это позиция, либо же она отражает некоторую не только социологическую, но и – шире — культурную тенденцию?
В свое время на одном из научно-образовательных порталов, которые я редактирую, под названием «Трансформации русской классики», были размещены словарные статьи о русской литературе из наиболее репрезентативных английских и французских энциклопедий, Большой советской энциклопедии, а также советской «Литературной энциклопедии» конца 20-х – начала 30-х гг. прошлого века (статья о русской литературе из уничтоженного впоследствии 10 тома) (4). Каждый непредубежденный читатель при сопоставлении этих статей может убедиться в парадоксальном совпадении их основных аксиологических установок – по отношению к исторической России (5). Нужно признать, что за вычетом некоторых важных, разумеется, исключений из общего ряда, аксиологической подход к русской литературе и русской истории в западной университетской среде – в своих основных оценочных параметрах, — часто, слишком часто, смыкается с ее советским истолкованием, когда русская литература (да и в целом культура) воспринимается позитивно тогда, когда она соответствует если не революционно-демократической мифологии, то, во всяком случае, логике «левого мифа» (Р. Барт). Когда же отечественную литературу истолковывают иначе, отвергая «миф о русской действительности как средоточии косности, невежества, рабской покорности» (6), такие интерпретации трактуются как «идеализация» русской действительности. И сколько бы ни пытался, героически пытался, например, А.И. Солженицын, используя свой авторитет русского патриота у себя на Родине и в мире, отделить русское национальное от советского интернационального, увы, и ему ощутимо поколебать доминирующую доныне логику леволиберального мифа, подкрепленного в последние годы девятым валом новых поношений исторической России, в полной степени так не удалось.
Всё это, впрочем, вполне ожидаемо и прогнозируемо. Если историческая Россия с позиций «левого мифа» еще хуже, еще страшнее, чем даже и тоталитарный Советский Союз, как постфактум «оправдывали» свое безоглядное «очарование» российской Революцией западные интеллектуалы, то стоит ли удивляться той аксиологии, образцы которой без всякого труда можно обнаружить как в нынешних университетских штудиях, так и в энциклопедических статьях?
Приходится – в который уже раз! — признать правоту И.А. Ильина, который горестно констатировал: «Марксизм есть для них (европейцев. – И.Е.) “свое”, европейское, приемлемое; и советских коммунист для них ближе и понятней, чем Серафим Саровский, Суворов, Петр Великий, Пушкин, Чайковский и Менделеев» (7). На какое-то время показалось, что наследие Первой русской эмиграции (в той ее части, где речь идёт о новом осмыслении русской литературы) будет, наконец, в полной мере освоено и на их Родине, в современной России, что русская классика сможет освободиться «из-под глыб» трактовок, навязанных ей за прошлые десятилетия, чуждых самому ее духу, овнешняющих ее духовную суть (8). Однако, когда еще далеко не освоено даже и самое главное в наследии русской эмиграции, в том числе, в ее части, посвященной творчеству Шмелёва, как, с одной стороны, мы видим в последние годы все новые и новые попытки дискредитации самого писателя (9), а с другой, постоянно звучащие опасения о некоем преувеличении (конечно же, под влиянием таких эмигрантских авторов, как И.А. Ильин, О.Н. Сорокиной и др.) религиозной (то есть православной) компоненты в творчестве Шмелёва. При этом совершенно игнорируется, что, по убеждению писателя, русская литература вышла вовсе не из «Шинели» Гоголя, а «из духовной сущности русского народа, из томлений его по правде Божией на земле, из его веры в эту правду, из его исканий этой правды» (10).
Поэтому, с известной точки зрения, а именно с последовательной проведенной логики «левого мифа», литература эта – в своих глубинах — «реакционна», «великодержавна» и «консервативна». Поэтому, хотя она в принципе и может быть использована – в каких-то дозах и под методическим конвоем – для особых целей (для сопровождения подобного конвоя и создавались в свое время целые академические институты), когда, например, высокопоставленными функционерами создавались шедевры под названием «Наследие Пушкина и коммунизм» (11), но полностью искоренить эту Божию правду из русской литературы все-таки затруднительно. Ее можно только исказить в интерпретациях (например, в театральных постановках) – так, чтобы этот реакционный ценностный дух из нее по возможности выветрить.
Нельзя не признать, что лучшие шмелёвские дореволюционные произведения – «Гражданин Уклейкин», «Человек из ресторана» — вполне «прогрессивны», «демократичны», «социальны». В раннем шмелёвском творчестве можно заметить черты позднего, зрелого мастера (например, особое искусство сказа), но, наряду с этим, произведения вполне отвечают ожиданиям как отечественной «демократической» общественности, так и европейским представлениям о негодной российской действительности. Шмелёв получает европейское признание, «Человек из ресторана» выдерживает несколько изданий и переводится на десяток языков… Следует одновременно подчеркнуть, что Шмелев все-таки, если и позволяет себя увлечь социальным радикализмом, но вполне умеренным.
Когда произошла февральская революция, Шмелёву, как и подавляющему большинству русских писателей того времени, показалось, что дальше будет лишь лучше. Шмелёв вошёл в группу московских писателей, которые специально поехали встречать вглубь страны амнистированных Временным правительством «политических», дабы торжественно отметить их освобождение… Освобождали всех – и «политических», и уголовных… Однако уже тогда писателю пришлось убедиться в том, что реальность оказывается значительно сложнее революционно-демократического мифа о ней… Трудно, очень трудно было свыкнуться добродушному русскому обывателю, так переживавшему за «униженных» и «оскорбленных» проклятым царизмом маленьких людей, что очень скоро на русской земле достаточно будет слова «офицер» в анкете, дабы, не разбираясь добавочно, «очистить» крымскую советскую землю от таких русских офицеров, как Сергей Шмелёв.
Однако после русской Катастрофы ХХ века русские писатели смогли совершенно иначе увидеть ту Россию, которая была ими (и нами) потеряна или, точнее, у нас отобрана. Только после этого потрясения оказалось возможно как бы обозреть русскую жизнь в её целом. И, пожалуй, лучше всех это удалось именно Шмелёву. Читая Шмелёва, мы погружаемся в мир шмелёвской России, однако разве это только Россия Шмелёва? Нет, его Россия — это как раз та Россия, которая нами утрачена.
Однако нынешняя Москва, видно, православному писателю Шмелёву, певцу Москвы, не верит. У нее другие кумиры. До сих пор нет даже музея Шмелёва в Москве, единственный в России и мире – в Профессорском уголке г. Алушты. Начиная приблизительно с 2017 года, нарастает вал антишмелёвских публикаций в таких изданиях, как «Комсомольская правда», «Аргументы и факты» и другие.
В чем тут дело? Полагаю, вовсе не в неосторожных высказываниях писателя из личной переписки. Дело здесь именно в шмелёвском образе России. Тот образ, который мерцает на страницах «Лета Господня» и «Богомолья» — это образ соборной, православной России. Он не «идеален», там изображаются не святые, а грешники, но такие грешники, которые осознают или хотя бы чувствуют свою греховность – ибо в их «культурном бессознательном» наличествует тот национальный идеал, который имеет вполне определенное название – святость (отсюда и «святая Русь»). А проблемой эта шмелёвская, а точнее, наша Россия является для тех, кто на дух не переносит этот идеал, стремится заместить и трансформировать его во что-то иное, имеющее иные корни, нежели тысячелетняя русская православная традиция. Когда потоком идут казенные «духовность», «нравственность», «патриотизм», «дружба народов» (как, увы, уже было в позднем Советском Союзе), но сознательно стёрты и затушёваны отличительные черты православного христианства, когда даже в пасхальном поздравлении официальные лица порой избегают произнести слова «Христос воскрес!», да и самого слова Христос.
Отсюда и нынешнее ожесточение «хозяев дискурса», направленное на Шмелёва, который смог нам художественно передать нашу воцерковленную Родину, именно потому что его творчество является золотой нитью связывающей русских с исторической Россией.
XXV Шмелёвские чтения знаменуют собой – уже своей непрерывностью, что есть люди, которые смогли в свое время оценить эту золотую нить, а затем, несмотря ни на какие трудности, десятилетиями следовать своему пути, собирали в Профессорском уголку неравнодушных к судьбе России людей. Шмелёву теперь торопиться некуда. Он вернулся в Россию, точнее, вернул нам Россию. А что мы не вполне способны взять утраченное… Шмелёв теперь сам уже может выбирать будущие поколения. Наверное, они впереди. Будем надеяться на это.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Гоголь Н.В. Духовная проза. М., 2001. С. 214.
2. См.: Есаулов И.А. Революционно-демократическая мифология как фундамент советской истории русской литературы // Проблемы исторической поэтики. 1998. Т. 5. С. 192-202.
3. Михайлов А.В. Гоголь в своей литературной эпохе // Гоголь: история и современность. М., 1985. С. 104, 106.
4. См.: Электронный источник http://transformations.russian-literature.com
5. См.: Есаулов И.А. Литературоведческая аксиология: опыт обоснования понятия // Проблемы исторической поэтики. 1994. Т. 3. С. 379-383.
6. Хализев В.Е. Спор о русской классике в начале ХХ века // Русская словесность. 1995. № 2. С. 20.
7. Ильин И.А. Собр. соч.: В 10 т. Т. 2. Кн. 1. М., 1993. С. 64-65.
8. См. том серии Pro et contra «Русская классика: железный век» (СПб., 2017) с моей вступительной статьей «Русская классика в период русской Катастрофы».
9. См. один из последних показательных примеров: компиляцию Т. Давлетшина на портале «Русская народная линия» (Электронный источник https://ruskline.ru/news_rl/2021/04/03/pisatel_ivan_shmelev_i_nacisty ).
10. Шмелев И.С. Собр. соч.: В 5 т. М., 1999. Т. 7 (доп.). С. 543.
ОПУБЛИКОВАНО:
И.С. Шмелёв и писатели русского зарубежья. XXV Крымские международные Шмелёвские чтения, посвященные 100-летию со дня «Русского исхода»: сборник статей международной конференции. Симферополь, 2021. С. 6-11.

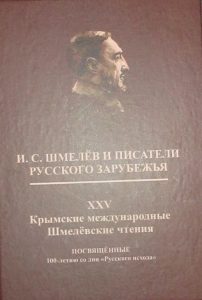
Добавить комментарий