«МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК» В ТВОРЧЕСТВЕ СОЛЖЕНИЦЫНА: ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНАЯ ПЕРСПЕКТИВА
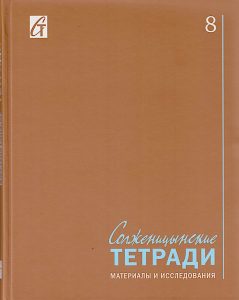
В рамках этой статьи хотелось бы преимущественно сосредоточиться на самых, пожалуй, известных персонажах Александра Исаевича, которых можно причислить к подобному типу: именно они и увековечены на московском памятнике А.И. Солженицыну: Иване Денисовиче и Матрёне. В том контексте, который обозначен в названии предлагаемой работы.
Уже в перестройку, в октябре 1987 г., Асир Сандлер в «Собеседнике» заявил: «”Один день Ивана Денисовича” Солженицына я не принял после первого прочтения категорически… Солженицын описал и тем самым в немалой степени типизировал лагеря того времени. И главной персоной оказался Иван Денисович, человек с минимальными духовными запросами, замкнутый на своих сиюминутных заботах, но которого Солженицын подал как образ, символ русского народа. А подлинных пролетариев, которые в двадцатые годы кончали рабфаки, а потом промакадемии и становились масштабными людьми, подлинную интеллигенцию во всех сферах науки и культуры он соизволил не заметить. Хотя именно она и была главной, основной массой репрессированных, начиная с тридцать седьмого года» (1). В сущности, Сандлер лишь повторил, подытожил те упрёки, которые были обращены к Солженицыну, начиная уже с самой первой публикации «Одного дня»: не та «главная тема», не о тех, не они главные жертвы советского тоталитарного режима.
Леонид Жуховицкий, рассуждая о Матрёне Солженицына, так — в 1964 году – в «Литературной России» истолковал смысл произведения: «…независимо от первоначальных намерений художника, рассказ показал бессмысленность, обреченность и даже аморальность праведнической морали, несмотря на прекрасные душевные качества самой Матрёны. <...> Сколько зла [96] на планете творится послушными руками таких вот праведников! Сколько жуликов и подлецов привычно рассчитывают на их смиренную покорность и неразборчивую доброту! Рассказ убедительно показал, что в борьбе за счастье ее и сотен миллионов других Матрён земного шара лучше рассчитывать не на праведников, а на обычных, “грешных” людей» (2).
Стало уже общим местом, когда пишут о Солженицыне, отмечать: «в его прозе переплелись традиционные темы: тема “маленького человека” и тема очищения через страдание (3). Действительно, у Солженицына неизменно чувство симпатии и уважения к третируемым фактически, хотя и превозносимым советским официозом, «простым» людям. Как замечает Л.И. Сараскина, «… это был поворот к личности, которая в советской иерархии унижена и подавлена в наибольшей степени, но которая в наименьшей степени живет по лжи. Это был личный протест против уже понятого обмана оттепели, с ее интеллектуальной трусостью и дозированным свободомыслием» (4).
Не будем приводить многочисленные суждения критиков насчет того, что к «маленькому человеку» Ивану Денисовичу автор относится «лучше» чем, к примеру, к «образованному» Цезарю Марковичу (5). Но является ли покорный Иван Денисович («терпила», как подобных людей называют на нынешнем молодёжном сленге) вполне субъектом (личностью)?
Вопрос сложный. Все мы помним финал солженицынского текста: «Засыпал Шухов, вполне удоволенный. На дню у него выдалось сегодня много удач: в карцер не посадили, на Соцгородок бригаду не выгнали, в обед он закосил кашу, бригадир хорошо закрыл процентовку, стену Шухов клал весело, с ножевкой на шмоне не попался, подработал вечером у Цезаря и табачку купил. И не заболел, перемогся. Прошел день, ничем не омраченный, почти счастливый» (6).
Немыслимый – как будто — для сколько-нибудь уважающей себя личности — «минимализм» солженицынского персонажа, на первый взгляд, склоняет к выводу о практически угасшей субъектности (особенно горько [97] – в авторском сарказме – последнее: «почти счастливый»). Такого рода эстетизация подобной покорности кажется тем более странной, если вспомнить неукротимый бунт против «системы» самого писателя. Или, скажем, его особые симпатии к личности Столыпина, который воплощает ведь совершенно иной человеческий тип, нежели Иван Денисович.
Мы здесь не касаемся также многократно обсуждаемого в критике вопроса, что Иван Денисович с каким-то особым рабочим азартом, если не сказать удовольствием, словно бы гоголевский Акакий Акакиевич переписывая бумаги, строит, кажется, еще одну тюрьму для своего же брата, зэка (хотя свой собственный мир, в котором живёт гоголевский персонаж, загруженный работой, было бы крайне любопытно сопоставить с аналогичным стремлением персонажа Солженицына одухотворить казенный и враждебный ему лагерный порядок): «Мастерком захватывает Шухов дымящийся раствор — и на то место бросает и запоминает, где прошел нижний шов (на тот шов серединой верхнего шлакоблока потом угодить). Раствора бросает он ровно столько, сколько под один шлакоблок. И хватает из кучки шлакоблок (но с осторожкою хватает — не продрать бы рукавицу, шлакоблоки дерут больно). И еще раствор мастерком разровняв — шлеп туда шлакоблок! И сейчас же, сейчас его подровнять, боком мастерка подбить, если не так: чтоб наружная стена шла по отвесу, и чтобы вдлинь кирпич плашмя лежал, и чтобы поперек тоже плашмя. И уж он схвачен, примёрз» (62). Так увлечен Шухов этой подконвойной работой, что «аж взопрел» (61), он подгоняет своих столь же подневольных товарищей: «Подносчикам мигнул Шухов – раствор, раствор под руку перетаскивайте, живо! Такая пошла работа – недосуг носу утереть <…> Они ни на миг не останавливались и гнали кладку дальше и дальше <…> Бригадир от поры до поры крикнет: «Раство-ору!». И Шухов свое: «Раство-ору!»… он сейчас и брата родного по трапу с носилками загонял бы» (63) .
Но что это, если говорить об историко-литературной перспективе (или ретроспективе), за тип героя — Иван Денисович, Матрёна, некоторые другие персонажи Солженицына? Считается, что фраза «Все мы вышли из “Шинели” Гоголя», авторство которой приписывали то Ф.М. Достоевскому (в беседе с М. де Вогюе), то самому Вогюе, акцентирует несомненный приоритет изображения «маленького человека» для новой русской литературы, по крайней мере, с 40-х-60-х гг. XIX века. Хотя, например, И.С. Шмелёв, тоже отдавший дань в раннем своем творчестве изображению «маленького человека», позже подчеркивал, что и новая русская литература вышла не из гоголевской «Шинели», а «из духовной сущности русского народа, из томлений его по “правде Божией” на земле…» (7). [98]
Современный исследователь В.Н. Захаров утверждает, что в художественном мире Достоевского нет ни «лишних», ни «маленьких» людей: «У него каждый человек велик. Даже Макар Девушкин, социально ничтожный герой первого романа Достоевского…» (8). Действительно, добавим от себя, Достоевский художественно убедительно показал и, тем самым, доказал, что и «маленький» человек может быть и добрым, и злым, и талантливым, и бездарным. Он только лишь не может быть, собственно, «маленьким» (а может только лишь казаться таковым – особенно в сознании полуобразованного человека, из той самой «образованщины», особенности жизненных установок которой весьма убедительно проанализировал Солженицын). Однако можно ли утверждать, что такой подход к человеку присущ исключительно Достоевскому? По-видимому, он характеризует русскую литературу как таковую – в ее вершинных проявлениях.
Здесь не место полемизировать с тенденцией одномерного понимания этого «маленького человека», который будто бы и символизирует «гуманизм» классической русской литературы. Ведь если мы вспомним истоки возникновения темы «маленького человека», то сам историко-литературный материал будет сопротивляться подобной одномерности: например, не только же у Достоевского, но и у Пушкина «маленький человек» Самсон Вырин, помимо понятного читательского сочувствия, обнаруживает некую многомерность (и даже своего рода тиранство, будучи не готов «отпустить» свою «заблудшую овечку», не желая принимать ее собственного счастья с Минским). Гоголевский же Акакий Акакиевич из безропотной «жертвы» социума посмертно словно бы превращается в сурового мстителя. И так далее. Примеры можно было бы легко умножить.
Другое дело, что и пушкинская, и гоголевская «линия» была не только позднейшими исследователями, но уже и современниками Пушкина и Гоголя, а затем и писателями 40-60 гг. XIX века, да и, пожалуй, позже, характерным образом редуцирована. В результате этой редукции «маленький человек» был призван стать своего рода иллюстрацией жестокого социума, жертвой «недолжной» русской действительности, вечным укором «царизму». При этом сам герой лишался как пушкинской, так и гоголевской многомерности, объективировался и овнешнялся, из субъекта художественного мира он превращался в объект для всевозможных, преимущественно социологических, манипуляций.
Само понятие «критический реализм», сквозь призму которого десятилетиями рассматривалась и, тем самым, объективировалась русская литература, является навязанным ей и внешним – по отношению к глубинной основе русской культуры, негодным инструментарием, лишь по известным, [99] далеким от всякой «научности» обстоятельствам, долгие годы монополизировавшем изучение русской словесности.
Понятие христианского реализма куда более адекватно для русской классической литературы. Его уже пытались обосновать при изучении русской литературы; в том числе, пытался и я – в цикле своих работ (9). Однако воз и ныне там. Хотелось бы подчеркнуть, что само понятие христианского реализма – явление совершенно иного семантического ряда, нежели принятые обозначения литературных направлений (классицизма, сентиментализма, романтизма, реализма): речь идет о трансисторическом творческом принципе, который проявляет себя в литературе и искусстве христианского типа культуры.
Вершинные произведения русской классики базируются именно на этом творческом принципе. В творчестве Пушкина множество чудесных совпадений и чудесных развязок (вспомним хотя бы «Повести Белкина», «Капитанскую дочку»). Но как относиться к подобным сюжетным построениям? Как к наследию авантюрной традиции? как к новеллистическим особенностям? как к издержкам романтических представлений о мире?
Однако совершенно иное научное объяснение вытекает из признания реальности чуда. Если чудо – как свобода Бога – вполне реальный факт, а именно так и считали подавляющее большинство русских писателей, то многие события, кажущиеся на поверхностный взгляд неправдоподобными, либо фантастическими в художественном мире русской классики, могут быть охарактеризованы как проявления христианского реализма. Тогда понятен скепсис В.М. Марковича, который усомнился в том, что «основой реализма является социально-исторический и психологический детерминизм» (10), ведь именно чудо – как раз та духовная реальность, которая «отменяет» любой плоский детерминизм .
Русская литература создает шедевры, которые как в тексте, так и в подтексте наследуют трансисторической христианской традиции в понимании мира и человека. В этих произведениях память этой традиции живёт в давно уже секулярном мире, но эта секулярность все-таки так или иначе помнит о своих христианских истоках.
Поэтому — в вершинных произведениях отечественной классики – до тех пор, пока русская литература в своем культурном бессознательном наследует христианской традиции, — и «маленький человек» не может быть вполне объективирован, овнешнен, т.е. как бы выведен за пределы христианского представления о человеке. [110]
Толстовский Пьер Безухов «…в плену узнал, что Бог в Каратаеве более велик, бесконечен и непостижим, чем в признаваемом масонами Архитектоне вселенной» (11). До плена толстовский персонаж «…во всем близком, понятном <…> видел одно ограниченное, мелкое, житейское, бессмысленное» (т.е. то, что Асир Сандлер и увидел в Иване Денисовиче. – И.Е.), потому что «не умел видеть – прежде — великого, непостижимого и бесконечного ни в чем». Теперь же Пьер «испытывал чувство человека, нашедшего искомое у себя под ногами» (12). Это движение Пьера от «дальнего» к «ближнему» (своему), от масонских абстракций к житейской конкретике, как известно, вполне созвучно и самому Толстому, который позже – с некоторым чисто толстовским радикализмом – и сформулировал это отношение к «простоте» тех, кого считали, даже и в буквальном смысле, «маленькими» людьми: «Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят».
В русской литературе – в ее магистральном векторе — «маленький человек» вовсе не является «простым», т.е. одномерным существом, которое, будучи вполне объективировано, словно бы лишено божественного Лика. Как же обстоит с этим у Солженицына?
Читая и перечитывая Солженицына, можно убедиться, что он наследует именно этой традиции – это не расплывчатая традиция «гуманизма» — несколько покровительственная по отношению к «маленькому человеку», а традиция – христианская. Даже в том социуме, где персонажи, как подчеркивается в тексте «Одного дня…», уже не помнят, какой рукой креститься – правой или левой. Однако автор показывает, что в культурном бессознательном этих людей – хотя бы некоторых из них – остались не выкорчеванными с корнем некоторые доминантные особенности русской культуры – именно те, которые дошли до ХХ века — с крещения Руси.
И ладный Иван Денисович, и несуразная Матрёна из «Матрёнина двора» сохраняют в себе ту же самую личностность, которая появляется в русской культуре с христианской эпохи и которую нельзя выкорчевать никаким насильственным принуждением.
Эти «простые люди» — такие персонажи, по Солженицыну, о которых вполне можно сказать знаменитыми завершающими строками «Матрёнина двора»:
«Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село.
Ни город. Ни вся земля наша» (145).
Эти строки запоминают все, кто прочел рассказ Солженицына. Но обращу внимание на неодномерность, сложность образа Матрёны: ведь до этого [101] финала автор замечает: «И только тут — из этих неодобрительных отзывов золовки — выплыл передо мной образ Матрёны, какой я не понимал ее, даже живя с нею бок о бок» (145). Ранее «не понимал»: иными словами, Матрёна не является одномерным по своей сущности предметом сочувственно-гуманистического покровительственного отношения (13). Напротив, сложность ее личности, не понятой ни мужем, ни сестрами, ни золовками, ни — поначалу — даже и самим автором – проступает только как откровение, как чудо – после постигшей ее катастрофы. Так что фраза автора в середине повести – «так в тот вечер открылась мне Матрёна сполна» (132) — все-таки не окончательный, а промежуточный итог, ибо выражение «открылась… сполна» ранее опредмечивало и овнешняло героиню.
«Открылась» Матрёна и читателю, и автору (14) все-таки не в «тот вечер», а уже после. После ее смерти. И первый шаг к такому – истинному — христианскому пониманию – раскаяние самого автора за то, что он в последнем слове своем упрекнул Матрёну: «И в день последний я укорил ее за телогрейку» (138). Героиня и в самом деле «провинилась»: «Тут заметил я, что она в моей телогрейке, уже измазала рукава о льдистую грязь бревен, — и с неудовольствием сказал ей об этом <…> Так я в первый раз рассердился на Матрёну Васильевну» (135). Авторское «Ах, Матрёна-Матрёнушка» (138) контрастирует с прагматически-бездушным отношением «тёти Маши», той «полувековой подруги», «единственной, кто любил Матрёну в этой деревне» (139), озабоченной после смерти Матрёны ее «вязаночкой серой» в сундуке, которую та «прочила Таньке» (138), не забывшей забрать эту «вязаночку» из сундука покойницы, пока еще не «налетела» родня… Это раскаяние (покаяние) «Игнатича» (alter ego самого автора), вполне в духе православной традиции, а потому и «законнические» упреки как Н.Н. Старыгиной (15), так и И.П. Карпова (16), обращенные к Солженицыну, уличающие его, так сказать, в «недостаточно» христианских установках (и даже в прямо нехристианском характере мировоззрения), характеризуют, скорее, постсоветское [102] филологическое «законничество» (17), нежели способствуют адекватному пониманию «Матрёнина двора».
В целом же, по-видимому, хотя «объектность» некоторых персонажей Солженицына и повышена (сравнительно с персонажами не только Достоевского и Толстого, но и Пушкина с Гоголем), что можно объяснить дискретностью русской культуры в послереволюционную эпоху (18), но все-таки нельзя сказать, что эта объектность стала доминантной: в этом смысле Солженицын в изображении человека наследует именно доминантному вектору русской литературы.
Таким образом, при всей само собою понятной разнице своих творческих установок, идеологических пристрастий и предубеждений, общественных надежд и социальных утопий, Толстой, Достоевский, а позднее и Солженицын в изображении «маленького человека» все-таки наследуют той глубинной традиции, которая органична для русской культуры и базируется на христианском отношении к ближнему своему. Одна из существенных особенностей отечественной литературы состоит в том, что в ее вершинных произведениях «маленьких людей» нет. Не только Толстой и Достоевский, но и – ранее – Пушкин и Гоголь художественно показали неисчерпаемость любой человеческой личности. В русской культуре эта многомерность обусловлена ее православным основанием.
Эта христианская традиция многомерна и многоцветна, ее недопустимо объективировать. Русские писатели осваивают в своем художественном творчестве различные ее грани, более им близкие, в том числе, и в чрезвычайно неблагоприятных исторических условиях. [103]
___
1. Цит. по: Алексеев А. Сто лет вместе: Александр Солженицын в цитатах современников // Коммерсантъ. 2019. 2018. 11 декабря. Электронный источник: https://www.kommersant.ru/doc/3826618#id903315
2. Там же.
3. Рыклин М. «Проклятый орден». Шаламов, Солженицын и блатные // Отечественные записки. 2008. № 2. Цит. по электронному источнику: http://www.strana-oz.ru/2008/2/proklyatyy-orden-shalamov-solzhenicyn-i-blatnye
4. Сараскина Л.И. Солженицын. М.: Молодая гвардия, 2009. С. 464.
5. Ср.: «Когда Цезарь Маркович, увлеченный “образованным разговором”, берет миску с кашей из рук Шухова так, будто она сама к нему приехала по воздуху, а Иван Денисович, поворотясь, тихо уходит от него, спорящего с другим лагерником об “Иване Грозном” <…>, кажется, что и автор разворачивается и уходит вместе с Шуховым и идет прочь от лукавого празднословия» (Сараскина Л.И. Указ. соч. С. 464).
6. Художественные тексты А.И. Солженицына цит. по изданию: Солженицын А.И. Малое собр. соч. Т. 3. Рассказы. М.: ИНКОМ НВ, 1991. С. 111. Далее страницы указываются в скобках.
7. Шмелев И.С. Творчество А.П. Чехова // Шмелев И.С. Собр. соч.: В 5 т. М.: Русская книга, 1999. Т. 7 (доп). С. 543.
8. Захаров В.Н. Достоевский и Бахтин в современной научной парадигме // Достоевский и мировая культура: альманах. СПб., 2008. Вып. 24. С. 44.
9. См.: Есаулов И.А. Христианский реализм как художественный принцип Пушкина и Гоголя // Четвертые Гоголевские Чтения: Гоголь и Пушкин. М.: Книжный дом «Университет», 2005. С. 100–108; Он же. Христианский реализм как художественный принцип русской классики // Феномен русской духовности. Калининград: РГУ имени И. Канта, 2007. С. 9–20.
10. Маркович В.М. Вопрос о литературных направлениях и построение истории русской литературы XIX века // Известия РАН. Отделение литературы и языка. 1993. № 3. С. 27.
11. Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 20 т. М.: Гос. издательство художественной литературы, 1963. Т. 7. С. 234.
12. Там же.
13. Cр.: «… главным оплотом (а по сути – маленькими островком) христианской России в произведении Солженицына является дом (двор) Матрёны…» (Урманов А.В. Художественное мироздание Александра Солженицына. М.: Русский путь, 2014. С. 523). В работе Урманова справедливо подчеркивается, что «называя свою героиню праведницей, Солженицын возвращает этому слову его первоначальный – православно-христианский смысл» (Там же. С. 537).
14. Сложный вопрос о соотношении автора и рассказчика, обстоятельно изученный в цитируемой выше работе А.В. Урманова (С. 328-336), мы оставляем за пределами нашего рассмотрения.
15. См.: Старыгина Н.Н. Праведник: образ-понятие и образ персонаж (по рассказу «Матрёнин двор» А.И. Солженицына) // «Матрёнин двор» А.И. Солженицына: Художественный мир. Поэтика. Культурный контекст: сб. научных трудов. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 1999. С. 128-139.
16. См.: Карпов И.П. Авторское сознание Солженицына (авторологические аспекты) // «Матрёнин двор» А.И. Солженицына. С. 140-174.
17. См.: Есаулов И.А. Постсоветские мифологии: структуры повседневности. М.: Академика, 2015. С. 483-531.
18. См. подробнее: Есаулов И.А. Структуры повседневности и творческий эксперимент: К постановке проблемы // Вестник Московского государственного областного университета. 2015. № 3. Электронный источник: http://evestnik-mgou.ru/Articles/View/703
ОПУБЛИКОВАНО: Солженицынские тетради: Материалы и исследования. 8. М.: Русский путь, 2021. С. 96-103.

One Comment
Спасибо — как раз кстати ! Ваше понимание русского классика настраивает на дальнейшее расширение и углубление представлений о его творчестве в контексте Вашего направления в науке , так что — мрак рассеется !