«Простые люди» у Толстого, Достоевского и Солженицына: к постановке проблемы
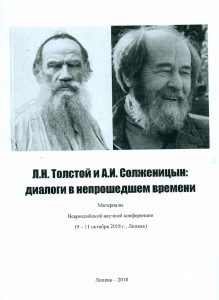
Аннотация: Понятие «простые люди» восходит к концепту «маленького человека». В статье рассматриваются его различные коннотации. Одна из существенных особенностей русской литературы состоит в том, что в вершинных произведениях отечественной классики «маленьких людей» нет. Не только Толстой и Достоевский, но и – ранее – Пушкин и Гоголь художественно показали неисчерпаемость любой человеческой личности. В русской культуре эта многомерность обусловлена ее православным основанием. Солженицын наследует той же самой христианской духовной традиции, что и другие выдающиеся русские писатели, однако, изучая его творчество, необходимо учитывать дискретность русской истории советского эпохи, что сказывается и в образе «простого человека».
С легкой (или нелегкой?) руки Ю.Н. Тынянова в отечественном литературоведении распространилась гипотеза, им самим не вполне обоснованная: в соответствии с доктриной формализма, рассматривать творчество Достоевского как своего рода пародию на Гоголя (1). Этот ход конём (2) , если использовать выражение другого известного формалиста, потому и получил широкое распространение в известных кругах, что принципиально игнорирует глубокую укорененность творчества как Гоголя, так и Достоевского в многомерной христианской традиции (разумеется, в ее православном изводе). Считается также, что фраза «Все мы вышли из “Шинели” Гоголя», авторство которой приписывали то Ф.М. Достоевскому (в беседе с М. де Вогюе), то самому Вогюе, акцентирует несомненный приоритет изображения «маленького человека» для новой русской литературы, по крайней мере, с 40-х-60-х гг. XIX века. Нет нужды специально доказывать, что представления о «простых людях» преемственно напрямую связано с концептом «маленького человека».
Согласно В.Н. Захарову, мнение которого я вполне разделяю, в художественном мире Достоевского нет ни «лишних», ни «маленьких» людей: «У него каждый человек велик. Даже Макар Девушкин, социально ничтожный герой первого романа Достоевского. Создав образ этого героя, Достоевский открыл новую концепцию человека» (3). Согласно другой формулировке того же исследователя, «…у Достоевского нет маленьких людей – каждый безмерен и значим, у каждого – свое Лицо. У других писателей герой зачастую меньше автора – Достоевский умел явить величие простого человека. <…> Герой Достоевского подчас неведом самому себе, непредсказуем не только для читателя, но и для автора. У него всегда есть заветное “вдруг” – неожиданный “переворот” во мнениях и поступках, “перерождение убеждений” – преображение личности» (4). Действительно, Достоевский, как известно [26], художественно убедительно показал и, тем самым, доказал, что и «маленький» человек может быть и добрым, и злым, и талантливым, и бездарным. Он только лишь не может быть, собственно, «маленьким» (а может только лишь казаться таковым – особенно в сознании полуобразованного человека, из той советской «образованщины», особенности жизненных установок которой весьма убедительно проанализировал А.И. Солженицын).
Здесь не место полемизировать с тенденцией одномерного понимания этого «маленького человека», который будто бы и символизирует «гуманизм» классической русской литературы. Ведь если мы вспомним истоки возникновения темы «маленького человека», то сам историко-литературный материал будет сопротивляться подобной одномерности: например, не только же у Достоевского, но и у Пушкина «маленький человек» Самсон Вырин, помимо понятного читательского сочувствия, обнаруживает некую многомерность (в данном случае своего рода тиранство, будучи не готов «отпустить» свою «заблудшую овечку», не желая принимать ее собственного счастья с Минским) (5). Гоголевский же Акакий Акакиевич из безропотной «жертвы» социума («зачем вы меня обижаете») посмертно словно бы превращается в сурового мстителя.
Другое дело, что и пушкинская, и гоголевская «линия» не только позднейшими исследователями, но уже и современниками Пушкина и Гоголя, а затем и писателями – их мнимыми «продолжателями» (как раз в 40-60 гг., да и, пожалуй, позже) были характерным образом редуцированы, обеднены и примитивизированы. В результате этой редукции «маленький человек» был призван стать своего рода иллюстрацией жестокого социума, жертвой «недолжной» русской действительности, вечным укором «царизму». При этом сам герой лишался как пушкинской, так и гоголевской многомерности, объективировался и овнешнялся, из до конца неисчерпаемого никаким научным «анализом» (тем более, публицистической критикой) субъекта художественного мира он превращался в объект для всевозможных, преимущественно социологических, манипуляций.
Само понятие «критический реализм», сквозь призму которого десятилетиями рассматривалась и, тем самым, объективировалась русская классика, является навязанным ей и внешним – по отношению к глубинной основе русской культуры, негодным инструментарием, лишь по известным, далеким от всякой «научности» политическим обстоятельствам, не только недопустимо долго задержавшимся в отечественном литературоведении, но и долгие годы монополизировавшем изучение отечественной словесности.
Понятие христианского реализма куда более адекватно для русской классической литературы. Следует при этом подчеркнуть, что само понятие христианского реализма – явление совершенно иного семантического ряда, нежели принятые обозначения литературных направлений (классицизма, сентиментализма, романтизма, реализма): речь идет о трансисторическом творческом принципе, который проявляет себя в литературе и искусстве христианского типа культуры. [27]
Вершинные произведения русской классики базируются именно на этом творческом принципе. В творчестве Пушкина множество чудесных совпадений и чудесных развязок (вспомним хотя бы «Повести Белкина», «Капитанскую дочку»). Но как относиться к подобным сюжетным построениям? Как к наследию авантюрной традиции? как к новеллистическим особенностям? как к издержкам романтических представлений о мире? как к отзвуку гротеска в литературе?
Однако совершенно иное научное объяснение вытекает из признания исследователем реальности чуда. Если чудо – как свобода Бога – вполне реальный факт, высшая непреложность которого вполне доказана Воскресением Христа, то многие события, кажущиеся на поверхностный взгляд неправдоподобными, либо фантастическими в художественном мире русской классики, могут быть охарактеризованы как проявления христианского реализма. Тогда понятен скепсис В.М. Марковича, который усомнился в том, что «основой реализма является социально-исторический и психологический детерминизм» (6), ведь именно чудо – как раз та духовная реальность, которая «отменяет» любой детерминизм (7).
Может быть, основой вершинных произведений русской литературы является сопряжение человеческого и Божественного планов бытия в единый художественный образ? Это сопряжение стало возможным в итоге художественного освоения доминантны новозаветного образа мира, который строится на признании человеческой и Божественной природы Христа.
Древнерусская литература осваивает внешние стороны земных последствий этого сопряжения. Она переполнена описаниями чудес, но позиция автора такова, что то или иное чудо абсолютно реально, как реально сопряжение человеческого и Божественного начал. Если для исследователя, вопреки авторской установке, агиографическое описание является условностью, то его толкование будет, конечно, тем или иным объяснением текста, но именно внешним объяснением. Если же он найдет в себе, используя выражение А.П. Скафтымова, «широту понимания» и поверит реальности жития святого, то его толкование текста может претендовать не только на внешнее объяснение, но именно на глубинное понимание текста. В противном случае мы имеем порой весьма квалифицированные объяснения текста, в которых, однако, центральный момент древнерусской словесности – воцерковление читателя – выносится за скобки исследовательского внимания. Однако если исследователь не верит в искренность книжника, считая те или иные особенности его письма лишь следованием внешнему «литературному этикету», то он, очевидно, не может претендовать и на подлинное понимание изучаемых им текстов.
Русская же классика XIX века, обогатившись художественными открытиями Нового времени, смогла создать шедевры, которые как в тексте, так и в подтексте наследуют трансисторической христианской традиции в понимании мира и человека. В этих произведениях чудо явлено не в сакрализованном, но зачастую в уже прозаизированном мире. Но этот секуляризуемый мир, тем не менее, помнит о своих христианских истоках. [28]
Поэтому, как бы не пытались – со времени «формальной школы» – свести лишь к «побочному художественному приему» слова «Я брат твой», сама христианская основа русской культуры как будто сопротивляется сведению смысла «Шинели» до «языковой игры», до «анекдотического стиля» с «элементами патетической декламации» (8). Главное же, при подобной абсолютно «внешней» к системе ценностей своего предмета позиции субъекта научного описания, в сущности, подменяется и сам предмет: на первый план в «изучении» выдвигаются по тем или иным причинам близкие субъекту описания моменты его поэтики (скажем, стихия анекдота), тогда как уходящие в смысловую глубину христианские подтексты редуцируются до «патетики», «мифопоэтики», архаических моделей.
М.М. Бахтин, характеризуя народные истоки гоголевского мира, замечает: «Гротеск у Гоголя есть, следовательно, не простое нарушение нормы, а отрицание всяких абстрактных, неподвижных норм, претендующих на абсолютность и вечность. Он отрицает очевидность и мир “само собой разумеющегося” ради неожиданности и непредвиденности правды. Он как бы говорит, что добра надо ждать не от устойчивого и привычного, а от “чуда”» (9). Если отрешиться от анахронизма бахтинского «малого времени», согласно которому, «народное» должно быть обязательно противопоставлено «христианскому», то именно христианский реализм отрицает законнические «абстрактные, неподвижные нормы», отрицает «очевидность» и непреложность смерти.
«Чудо» одоления смерти является в этом контексте, конечно, именно отрицанием нормы, претендующей «на абсолютность и вечность». Однако смерть впервые побеждена – и тем самым «карнавально» осмеяна ее значимость – именно в христианском контексте понимания. Разумеется, христианский социум – и сама христианская картина мира – неоднородны. Вполне обоснованно можно выделять различные ярусы этого социума. Однако, вполне отдавая отчет в этой неоднородности, следует заметить, что ценностные ориентации архиерея и кузнеца Вакулы в «Ночи перед Рождеством» вряд ли кардинально различны в качестве «официальной» и «народной»: они могут быть поняты не в контекстах «двух культур», но в контексте единой христианской культуры.
Конечно, установка субъекта описания не может быть идентичной точкам зрения действующих лиц. Тем не менее, если действенность «чуда» вполне признается исследователем как позитивная значимость авторского образа мира, его описание – и понимание – своего предмета может быть одним, а если он наследует принципиально иной культурной традиции – то иным может быть и его описание фундаментальных ценностей этого мира.
Понятно поэтому, что в вершинных произведениях отечественной классики – до тех пор, пока русская литература в своем культурном бессознательном наследует христианской традиции, — и «маленький человек» не может быть вполне объективирован, овнешнен, т.е. как бы выведен за пределы христианского представления о человеке. [29]
Толстовский Пьер Безухов «…в плену узнал, что Бог в Каратаеве более велик, бесконечен и непостижим, чем в признаваемом масонами Архитектоне вселенной» (12: 205). До плена толстовский персонаж «…во всем близком, понятном <…> видел одно ограниченное, мелкое, житейское, бессмысленное», потому что «не умел видеть прежде великого, непостижимого и бесконечного ни в чем» (12: 205).. Теперь же «…он испытывал чувство человека, нашедшего искомое у себя под ногами» (12: 205). Это движение Пьера от «дальнего» к «ближнему» (своему), от масонских абстракций к житейской конкретике, как известно, вполне созвучно и самому Толстому, который позже – с некоторым чисто толстовским радикализмом – и сформулировал это отношение к «простоте» тех, кого считали, даже и в буквальном смысле, «маленькими» людьми: «Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят». C такой статьей Толстой выступил в журнале «Ясная поляна», что вызвало оживленный резонанс в общественном мнении.
И у Толстого, и у Достоевского «простые люди» вовсе не являются «простыми», т.е. одномерными существами, которые, будучи вполне объективированы, были бы лишены божественного Лика. Как же обстоит с этим у Солженицына? Стало уже общим местом, когда пишут о Солженицыне, отмечать: «в его прозе переплелись традиционные темы: тема “маленького человека” и тема очищения через страдание» (10). Действительно, у Солженицына неизменно чувство симпатии и уважения к третируемой фактически (особенно советской «образованщиной), хотя и превозносимой официально, категории «простых людей». Например, уже первыми критиками было отмечено, что к «маленькому человеку» Ивану Денисовичу автор относится «лучше» чем, к примеру, к «образованному» Цезарю Марковичу. Но является ли покорный Иван Денисович («терпила», как подобных людей называют в молодежной среде современного русского «национализма») вполне субъектом (личностью), либо же отмечаемая «традиционность» Солженицына на самом деле – та существенно редуцированная преемственность, о которой я упомянул выше?
Вопрос сложный. Вспомним финал солженицынского текста: «Засыпал Шухов, вполне удоволенный. На дню у него выдалось сегодня много удач: в карцер не посадили, на Соцгородок бригаду не выгнали, в обед он закосил кашу, бригадир хорошо закрыл процентовку, стену Шухов клал весело, с ножовкой на шмоне не попался, подработал вечером у Цезаря и табачку купил. И не заболел, перемогся. Прошел день, ничем не омраченный, почти счастливый» (текст цит. по: Солженицын А.И. Малое собр. соч. Т. 3. Рассказы. М., 1991. С. 111).
Немыслимый – как будто — для сколько-нибудь уважающей себя личности «минимализм» солженицынского персонажа, на первый взгляд, склоняет к выводу о практически угасшей субъектности (особенно горько – в авторском сарказме – последнее: «почти счастливый»). Такого рода эстетизация подобной покорности кажется тем более странной, если вспомнить неукротимый бунт самого писателя. Мы здесь не касаемся уже многократно обсуждаемого в критике вопроса, что Иван Денисович с каким-то особым рабочим азартом, если не сказать удовольствием, словно бы Акакий Акакиевич переписывая бумаги, строит, кажется, еще одну тюрьму для своего же брата, зэка (хотя свой [30] собственный мир, в котором живёт гоголевский персонаж, загруженный работой, было бы крайне любопытно сопоставить с аналогичным стремлением персонажа Солженицына одухотворить казенный и враждебный ему лагерный порядок): «Мастерком захватывает Шухов дымящийся раствор — и на то место бросает и запоминает, где прошел нижний шов (на тот шов серединой верхнего шлакоблока потом угодить). Раствора бросает он ровно столько, сколько под один шлакоблок. И хватает из кучки шлакоблок (но с осторожкою хватает — не продрать бы рукавицу, шлакоблоки дерут больно). И еще раствор мастерком разровняв — шлеп туда шлакоблок! И сейчас же, сейчас его подровнять, боком мастерка подбить, если не так: чтоб наружная стена шла по отвесу, и чтобы вдлинь кирпич плашмя лежал, и чтобы поперек тоже плашмя. И уж он схвачен, примерз <…> Шухов и другие каменщики перестали чувствовать мороз. <…> Кто работу крепко тянет, тот над соседями тоже вроде бригадира становится. Шухову надо не отстать от той пары, он сейчас и брата родного по трапу с носилками загонял бы» (3: 62-63).
И все-таки, как представляется, и ладный Иван Денисович, и несуразная Матрёна из «Матрёнина двора» сохраняют в себе ту же самую личностность, которая появляется в русской культуре с христианской эпохи и которую нельзя выкорчевать никаким насильственным принуждением, ни французским («Вдруг он захохотал свои толстым, добродушным смехом так громко, что с разных сторон с удивлением оглянулись люди на этот странный, очевидно, одинокий смех. — Xa, xa, xa! — смеялся Пьер. И он проговорил вслух сам с собою: — Не пустил меня солдат. Поймали меня, заперли меня. В плену держат меня. Кого меня? Меня? Меня — мою бессмертную душу! Xa, xa, xa!.. Xa, xa, xa!.. — смеялся он с выступившими на глаза слезами» (12: 62-63)), ни советским.
Эти «простые люди» — такие персонажи, по Солженицыну, о которых вполне можно сказать завершающими строками «Матрёнина двора»:
«Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село.
Ни город.
Ни вся земля наша».
В целом же, по-видимому, хотя «объектность» некоторых персонажей Солженицына («простых людей») и повышена (сравнительно с персонажами не только Достоевского и Толстого, но и Пушкина с Гоголем), что можно объяснить дискретностью русской культуры в советскую эпоху , но все-таки не до степени полного расхристианивания.
Таким образом, при всей само собою понятной разнице своих творческих установок, идеологических пристрастий и предубеждений, общественных надежд и социальных утопий, Толстой, Достоевский, а позднее и Солженицын в изображении «простых людей» все-таки наследуют той глубинной традиции, которая органична для русской культуры и базируется на христианском отношении к ближнему своему. Эта христианская традиция многомерна и многоцветна, ее недопустимо объективировать. Русские писатели осваивают в своем художественном творчестве различные ее грани, более им близкие, [31] в том числе, и в чрезвычайно неблагоприятных исторических условиях: например, в советскую эпоху.
1. См.: Тынянов Ю.Н. Достоевский и Гоголь (к теории пародии) // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977.
2. См.: Есаулов И.А. Преемственность или дискретность: «Арзамас»/ОПОЯЗ («ход конем» или регенерация преемственности) // Литературное общество «Арзамас»: история и современность. Арзамас – Нижний Новгород, 2015.
3. Захаров В.Н. Достоевский и Бахтин в современной научной парадигме // Достоевский и мировая культура : альманах. СПб., 2008. Вып. 24. С. 44.
4. Захаров В.Н. Вечная правда Достоевского // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 18 т. М. : Воскресенье, 2003. Т. 1. С. 370.
5. См.: Есаулов И.А. О cокровенном смысле «Станционного смотрителя» А. С. Пушкина // Проблемы исторической поэтики. Вып. 10. Петрозаводск ; М., 2012. С. 25-30.
6. Маркович В.М. Вопрос о литературных направлениях и построение истории русской литературы XIX века // Известия РАН. Отделение литературы и языка. 1993. № 3. С. 27.
7. См., например: Есаулов И.А. О чуде воскресения в романе «Преступление и наказание» // Ежегодная Богословская конференция Православного Свято-Тихоновского Богословского института: Материалы. М., 2003. С. 410-417.
8. Эйхенбаум Б. О прозе. О поэзии. Л., 1986. С. 55. Интересно, что исследователь, рассуждая о «гуманном месте» как «побочном» приеме, ни разу не приводит в своей статьей гоголевские слова «Я брат твой», отзываясь о содержании этого «места» как о «сентиментальном и намеренно примитивном» (Там же. С. 58). Подобная «примитивизация», по-видимому, больше свидетельствует о собственной системе ценностей субъекта объяснения, нежели адекватно описывает «объясняемый» им предмет.
9. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 495.
10. Рыклин М. «Проклятый орден». Шаламов, Солженицын и блатные // Отечественные записки. 2008. № 2. Цит. по электронному источнику: http://www.strana-oz.ru/2008/2/proklyatyy-orden-shalamov-solzhenicyn-i-blatnye
11. См.: Есаулов И.А. Структуры повседневности и творческий эксперимент: К постановке проблемы // Вестник Московского государственного областного университета. 2015. № 3. Электронный источник: http://evestnik-mgou.ru/Articles/View/703 [32]
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-012-90043.
Статья опубликована в сборнике: Л.Н.Толстой и А.И. Солженицын: диалоги в непрошедшем времени. Материалы Всероссийской научной конференции (9-11 октября 2018 г., Липецк). Липецк: ЛГПУ, 2018 — 297 с. С. 26-32.

Добавить комментарий