ТРИ ПУШКИНСКИХ ЗАВЕЩАНИЯ
Статья, открывающая «пушкинский» том Вестника Российского фонда фундаментальных исследований.
Хотя учёные споры о том, каким был Пушкин, по-видимому, никогда не закончатся (хотя бы в силу того, что в нашем всё органически соединились многоразличные стороны русской души: характерными полюсами в недавнем прошлом являются позиции С.Г. Бочарова [1] и В.С. Непомнящего [2]). Тем не менее, никем всерьёз не оспаривается вектор духовного пути национального гения — от эпикурейских проказ юности и последующих уроков «чистого афеизма» к письму П.Я. Чаадаеву, поздним прозе и лирике («Капитанской дочке» и Каменноостровскому циклу). В своей совокупности эти разножанровые свидетельства последнего года жизни Пушкина и можно рассматривать, разумеется метафорически, как три пушкинских завещания.
В письме к Чаадаеву Пушкин, полемизируя с историософскими воззрениями последнего, настаивает на особом предназначении России, подчёркивая: «клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог её дал» [3, с. 875]. Эти строки хорошо известны. Куда меньше обращалось внимание на знаменательное совпадение: 19 октября 1836 г. датировано не только это письмо, но и пушкинское Послесловие к «Капитанской дочке». Однако же такой внимательный и глубокий пушкин-ский читатель, как М.М. Пришвин, записал в 1933 г. в своём Дневнике: «Моя родина не Елец, где я родился, не Петербург, где я наладился жить, — то и другое для меня теперь археология, моя родина, непревзойдённая в простой красоте, в сочетавшейся с нею доброте и мудрости, — моя родина — это повесть Пушкина “Капитанская дочка”» [4, с. 679]. Поразительные и небывалые строки! Какое ещё литературное произведение кто и когда мог назвать своей родиной?
Однако же наше литературоведение долгое время явно отставало от подобных писательских интуиций. К примеру, такой весьма квалифицированный учёный, как Ю.М. Лотман, ещё в 60-е гг. того же века прочитывал «Капитанскую дочку» совершенно иначе, можно сказать, противоположным образом. […]
***
Сделаем и некоторые общие выводы относительно вектора пути Пушкина, учитывающие все три его «завещания». Совершенно ясно, что односторонними являются как попытки непременно вписать этого нашего «француза» в европейский культурный контекст, преимущественно инославный, так и обязательно увидеть в его произведениях сплошь «местное» православное содержание (скажем, цитируемые мною строки Пушкина об отечественной истории, «какой нам Бог дал», наше всё пишет-то по-французски…).
Ф.М. Достоевский, говоря о значении Пушкина для России, особо выделил «способность всемирной отзывчивости и полнейшего перевоплощения в гении чужих наций» [10, с. 130]. Согласно убеждению Достоевского, «способность эта есть всецело способность русская, национальная, и Пушкин только делит её со всем народом нашим <…>, он есть и совершеннейший выразитель этой способности <…> в деятельности художника» [10, c. 131]. Напоминая о пушкинских «Сценах из Фауста», «Дон Жуане», «Пире во время чумы» и других произведениях, Достоевский, переводя его высказывания на язык литературоведения, утверждает парафрастичность Пушкина и связывает эту пушкинскую особенность с всемирностью и всечеловечностью русского народа. При этом «последнее слово», которое, как надеется Достоевский, скажет ещё народ, есть слово Христос. Это слово как раз и означает то чаемое «всемирное» — вселенское — единение во имя Христово (то «братское окончательное согласие всех племён по Христову евангельскому закону» [10, c. 148]), которое в русской культуре накрепко срослось с именем Пушкина, соединившего «чужие гении в душе своей, как родные» [10, c. 148]. Никто со времени этой речи не сказал лучше о главном в Пушкине.
В стихотворениях Каменноостровского цикла соединились церковно-славянское и итало-французское (а ещё и римско-античное) культурные поля. Однако соединились не на абстрактно-«общечеловеческом» фундаменте, а на фундаменте христианско-вселенском, в его православном — для русской культуры — изводе, акцентируя пасхальный смысл этой культуры: паломничество к Пасхе как духовный путь самого поэта. В «Капитанской дочке» можно узреть не «разрыв», но соединение — на том же фундаменте — простонародного и дворянского (видимо, что-то подобное и почувствовал читатель Пушкина дворянин Пришвин, называя это своей родиной). Тот же пасхальный вектор пути — после Пушкина — можно заметить и у Гоголя — с его задачей воскресения «мертвых душ» (и тем же пасхальным вектором «Выбранных мест…») [11], и у самого Достоевского [12].
Продолжая споры о том, каким был Пушкин, уже невозможно, как это зачастую происходило ранее в нашей науке, игнорировать его твёрдого убеждения в том, что именно «греческое вероисповедание, отдельное от всех прочих, даёт нам особенный национальный характер». В поэтике позднего Пушкина воплощаются важнейшие грани русского национального характера; при этом важно не забывать о духовном истоке его «особенности»: православии.
Полностью (в PDF) читать ЗДЕСЬ: : 1. RFBR_2(117)2024_Есаулов
ОПУБЛИКОВАНО: Есаулов И.А. Три пушкинских завещания // Вестник РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2024. № 2. С. 9-25.



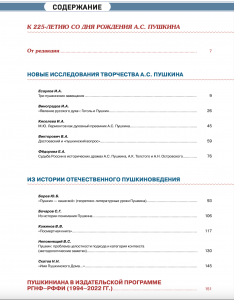
Добавить комментарий