Спектр адекватности в истолковании гоголевского творчества
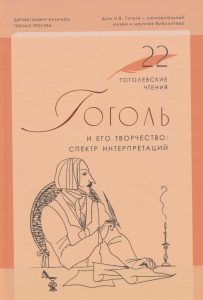

Как совершенно ясно из названия статьи, эта работа имеет преимущественно теоретический характер. Проблему можно сформулировать таким образом: следует ли стремиться литературоведу к поиску единственно «правильного» истолкования, либо же следует признать безграничную множественность прочтений? Наша позиция такова, что та и другая установки в равной степени ошибочны. Существует некий спектр адекватности (в том числе, в истолковании гоголевских произведений), который, с одной стороны, не сводим к одной-единственной «верной» рецепции (по умолчанию предполагая, что другие будут непременно ложными), а с другой же стороны, он имеет все-таки определенные границы, ограничивающие интерпретаторский произвол. К этому выводу автор настоящей статьи пришёл еще в далеком 1995 году [см.: Есаулов, 1995]. В этот раз хотелось бы дополнить и уточнить прошлые выводы систематическим разграничением трех исследовательских стратегий: анализа, интерпретации, понимания.
Формулируя весьма сжато и кратко, анализ предполагает изучение текста (при этом термин «текст» употребляется нами не в том расширительном смысле, как он используется, скажем, в рамках французского структуралистско-постструктуралистского направления, а в духе отечественной традиции, как она представлена, например, Ю. М. Лотманом: как константное образование, характеризующееся выраженностью, отграниченностью и структурностью [см.: Лотман, 1970]). В другой книге ученого уже в самом ее названии наглядно-показательно соединены текст и его анализ: «Анализ поэтического текста» [см.: Лотман, 1972].
В интерпретациях же репрезентируются те или иные истолкования художественного мира (который далеко не сводится к тексту, это другой [34] уровень произведения [см.: Есаулов, 2001: 305–306]), а понимание невозможно без постулата личностной «встречи» автора, стоящего как за текстом, так и за художественным миром, и читателя/исследователя [см.: Есаулов, 2017: 7–36]. «Дух» автора-демиурга, чтобы «воскреснуть» в сознании читателя-реципиента, должен вначале воплотиться посредством растворения в индивидуально-неповторимом «теле» текста. Литературное произведение, созданное автором, уже не зависит от его создателя, затвердев в тексте, но явлением культуры оно становится только благодаря контакту с читателем.
В первом случае доминирует установка на «адекватность» и общенаучную «воспроизводимость результата», во втором – признание «спектра» самых разных прочтений-интерпретаций не как «исключения», а как нормы литературоведения, в третьем же предполагается личностная встреча, которая может происходить при определенных условиях в особой рецептивной зоне, которую предлагается называть «спектром адекватности».
При этом приходится считаться с тем, что в современной гуманитарной науке доминируют – пока что – две первые (более укорененные и в истории филологии) установки. Первая предполагает, что гуманитарная наука, так сказать, только лишь часть науки как таковой (или же должна стремиться к этому), для которой характерны воспроизводимость результата, отделение и резкое противопоставление субъекта и объекта, вычленение закономерностей. Вторая установка базируется на признании специфики именно гуманитарных наук, их «инонаучности», по выражению С. С. Аверинцева [2006: 389]. В самом общем виде эти две тенденции в мировом гуманитарном поле ХХ века так или иначе вытекают соответственно из структурно-семиотической установки (даже когда затем постструктуралисты подобные интенции пытаются деконструктивистски обнулить) и из установки герменевтической.
В первом случае неизбежны попытки выстроить – в конечном итоге – нечто, напоминающее метанауку – со своим безоценочным и общим инструментарием, однозначной терминологией: это и было сциентистской утопией тартуско-московской семиотической школы (когда задача гуманитарной науки – выработать этот метаязык). Такой подход предполагает, что каждый может повторить по выработанному и формализируемому алгоритму тот или иной опыт поиска чего угодно (на своем материале) и получить такой же аналитический результат. То есть научный результат зависит не столько от исследователя, сколько от корректности инструментария и выстраивания алгоритма исследовательской процедуры (нужно признать, что в сфере образования в нашей стране – конечно, в адаптированном и вульгаризированном виде – внедрялся именно этот подход).
Второе же направление, которое связано с герменевтикой в самом широком смысле, настаивает на специфике гуманитарных наук, на наличии у них собственных особенностей, своей «инонаучной» терминологии, своих собственных подходов.
Третья установка в нашем литературоведении связана с именем М. М. Бахтина и исходит из того, что за предстоящим исследователю гуманитарным предметом (в нашем случае – изучаемым им текстом) всегда мерцает какое-то другое сознание другого, отличного от меня самого, человека [35] [см.: Бахтин, 1979]. Это сознание до конца никогда не может быть «проанализировано», даже и с помощью самых точных аналитических механизмов, а этот другой никогда не может быть вполне «объяснен». Монологическая «интерпретация» также не способна вполне ухватить его другость, которая приоткрывается (но только приоткрывается, а не распахивается вся сплошь!) лишь в «диалоге согласия».
Из трех выделенных исследовательских гуманитарных стратегий как раз анализ (иными словами, внешнее объекту изучения «объяснение») ближе всего к установкам так называемых «наук о природе» (В. Дильтей), с их декларируемой «объективностью» (установкой на бессубъектность). Именно поэтому, как и в «науках о природе», декларируется «воспроизводимость результата», исследовательская установка на достижение которой – в этом случае – как бы гарантирует от субъективистских искажений своего предмета. Как раз в этой сфере были наиболее популярны (и дольше всего продержались) аксиомы о неизбежности «научного прогресса». Примерами подобной установки могут служить, например, энциклопедические статьи, посвященные тому или иному писателю. Но эти «объяснения», претендующие на знание некой «объективной» истины, фактически оказываются интерпретациями, что становится особенно очевидным с течением времени, когда изменяются исходные принципы подхода к литературному процессу.
Те или иные интерпретации художественных произведений неотделимы от исторически изменчивых и порой резко расходящихся – методологически, культурно, политически, эстетически – установок самих истолкователей текста. Доминантный для современного литературоведения «дрейф» (Р. Барт) самого интерпретатора по тексту порой приводит к неожиданным результатам, однако же возобладавшая у поклонников этого «дрейфа» установка на отказ от поиска «истинности», будто бы непременно свидетельствующая об авторитарности сознания тех, кого интересует и «истинность», и сама истина, зачастую выводит исследователей за пределы той совокупности адекватных прочтений, которые и определяются понятием «спектра адекватности»: совокупности адекватных авторской интенции, но все-таки различающихся между собой интерпретаций. Зачастую же интерпретации произведение подвергается тогда, когда не всё оно, но только какой-то из его аспектов особо интересует ученого.
Наконец, третий вариант исследовательского «освоения» произведений литературы представляет собой, как уже сформулировано выше, то или иное его личностное понимание, так или иначе входящее в «спектр адекватности». Оно предполагает не одну-единственную «правильную» точечную коммуникацию, а именно «спектр» различных, не совпадающих друг с другом, однако, как представляется, в равной мере адекватных художественным интенциям того или иного писателя актов понимания. От постмодернистской «множественности» спектр адекватности отличается признанием границ, пределов адекватных прочтений.
Автор предопределяет направление читательских рецепций самим построением своего художественного текста, но отнюдь не входит в каждый отклик читателя (сознание которого является частью того или иного художественного мира), предоставляя читателю некую духовную свободу выбора,[36] в пределах которой тот волен принимать решения по своему усмотрению. Границы спектра адекватности зависят как от особенностей конструкции текста, так и от того типа культуры, которая является «родной» для его автора.
Проблема филологического понимания не решается ни заклинательными апелляциями к целостности своего предмета (художественного произведения), ни признанием роли контекста, ни даже указанием на решающее значение границ между текстом и контекстом. Необходима исследовательская рефлексия по поводу того или иного «соотнесения», актуализирующая тот или иной контексты понимания.
Любое «прочтение» художественного произведения исследователем может рассматриваться не только как изучение «безгласной вещи» в пределах той или иной абстрактно-научной системы, а как более или менее удачное погружение толкователя в могучие глубинные течения культуры, которое высвечивает шлейфы смыслов, не сводимых к индивидуальной, либо же «общенаучной» данности, но позволяющих расслышать и распознать в произведении как «эстетическом объекте» подспудно звучащий язык культурного «предания» – с его собственной системой ценностных координат.
Личностное понимание невозможно без того или иного аксиологического созвучия толкователя и системы ценностей писателя, которые в русской традиции неотделимы от христианской (а именно: православной) культурной грибницы, а потому авторские интенции будут искажены, если эта система ценностей в сознании исследователя имеет по каким-то причинам отрицательные коннотации.
Гуманитарное личностное понимание как методологическая установка в изучении Гоголя требует таких категорий описания своего предмета, которые либо относительно недавно появились в нашей филологии, либо же оказались на долгие десятилетия выведены из активного словоупотребления, поскольку имеют интердисциплинарный, а не чисто литературоведческий статус: это соборность, пасхальность, христоцентризм, умиление и другие. Однако их интердисциплинарность особого рода. Они характеризуют не любые художественные системы, а такие, которые вырастают из православной грибницы русской культуры. И обращение к ним необходимо при изучении творчества Гоголя как в «большом времени» русской и европейской культуры, так и в «малом времени» литературного процесса конкретного периода.
Приведем далее три взятых исключительно в целях иллюстративных (можно было бы остановиться и на совсем других примерах) выхода за границы «спектра адекватности».
Понятно, что любой перевод текста (в том числе, драматического) на сценические подмостки – это интерпретация, допускающая для режиссера широкое поле возможностей. Но насколько эти интерпретации могут быть адекватны авторской интенции? Московский драматический театр «АпАРТ» так «прочёл» гоголевскую комедию «Ревизор»* , что в финале спектакля никакой немой сцены нет вообще. Этим значимым отсутствием важнейшего [37] для автора комедии ее смыслового ядра перелицовка гоголевского текста не ограничилась. Вместо немой сцены актеры (то есть действующие лица «Ревизора») ходят по кругу (sic!) и поют «В лунном сиянье снег серебрится…». Постановка Андрея Любимова, безусловно талантливого человека. При подобной замене не «интерпретируется», а разрушается смысл комедии, какой был задуман (и воплощён в тексте!) Гоголем, он подменяется кардинально иным. Если в гоголевском замысле аналог смерти – немая сцена и «окаменение» зрителей – должна была преобразиться в их же «воскресение» (аплодисменты), ибо воскресения без смерти не бывает, то в данном случае угрюмое движение по кругу может символизировать что угодно, но не это. Таким образом, в рассмотренной примере мы видим выход за границы спектра адекватности по причине произвольной манипуляции с самим гоголевским текстом.
В знаменитой работе «Как сделана «Шинель» Гоголя», Б. М. Эйхенбаум старается учесть особенности конструкции собственно текста, преодолеть прежнее небрежение критиков самой этой конструкцией. Однако же он выносит за скобки исследования христианскую традицию, которой наследует Гоголь. В результате Эйхенбаум отказывается считать сколько-нибудь существенной для гоголевской повести попранное христианское братство, выдвигая вместо этого безличное сопоставление «анекдота» и «сказа» [Эйхенбаум, 1986: 45–63]. Хотя сама христианская основа русской культуры, уже не говоря о творческих установках Гоголя, как будто сопротивляется редукции смысла «Шинели» до «языковой игры», до «анекдотического стиля» с «элементами патетической декламации». К чему приводит попытка свести лишь к «побочному художественному приему» слова «Я брат твой» (любопытно, что это «гуманное место», как Эйхенбаум формулирует, он ни разу в своей статье не цитирует, выводя его из собственного исследовательского рассмотрения)? При подобном обнулении этической и религиозной системы ценностей, на которой основывается предмет изучения, в сущности, подменяется и сам предмет: на первый план в «изучении» выдвигаются по тем или иным причинам близкие субъекту описания моменты его поэтики (скажем, стихия анекдота), тогда как уходящие в смысловую глубину христианские подтексты редуцируются до «патетики», «мифопоэтики», архаических моделей. При этом сама поэтика в формалистическом изводе также сужается до «литературности».
Насколько характерна для данного литературоведческого направления охарактеризованная нами редукция? Как утверждал в своей программной статье «О литературной эволюции» Ю. Н. Тынянов, следует вообще отказаться от «основного понятия старой истории литературы» – традиции, ибо – с его точки зрения – принцип литературной эволюции кардинально иной, это «борьба и смена» [Тынянов, 1929: 30–37]. Таким образом, подчеркнуто акцентируемое опоязовское внимание к собственно тексту далеко не всегда является гарантией того, что подобные прочтения («анализ») входят в «спектр адекватности». Здесь выход за границы спектра адекватности происходит по причине игнорирования той христианской традиции, которой наследовал Гоголь. [38]
Третий – и последний – пример, которым мы бы хотели иллюстрировать наши теоретические положения, более сложный. Полемизируя с парафрастической параллелью (поэма «Мертвые души» как двойной парафразис как «Божественной комедии» Данте, так и русских православных представлений о смерти и воскресении), некоторые современные исследователи уверяют, будто «не подтверждается» предполагаемое место второго тома – в тернарной структуре «Мертвых душ» как аналог Чистилища. Поскольку подобная точка зрения была высказана авторитетным исследователем в одном из популярных сетевых изданий** , иными словами, вышла за рамки только лишь узкопрофессиональной, есть смысл на этом подробнее остановиться. Чем же мотивируется подобный негативизм по отношению к гоголевскому парафразису? «На самом деле во втором томе Чичиков даже более грешен, чем в первом. Сначала же он просто скупает мертвые души, ничего плохого не делает и отчасти даже кому-то помогает. А в следующем томе он занимается настоящим мошенничеством»*** . При этом центральная проблема поэмы – возможное воскресение «мертвых душ» – трактуется терминологически как «перерождение» героев (использование подобной терминологии свидетельствует, к сожалению, о непонимании того, что пасхальное воскресение – это отнюдь не «перерождение»), но главное в данном случае – другое. Итак, во втором томе, с этой точки зрения, «настоящее мошенничество» Чичикова, а вот в первом герой только лишь «просто скупает мертвые души», что понимается как «ничего плохого не делает» и «отчасти даже кому-то помогает».
Находится ли в спектре адекватного истолкования гоголевской поэмы такая интерпретация? Представляется, что нет. Дело в том, что, если исходить из законнических (юридических) позиций, тогда действительно, скупать мертвые души – это, как было сформулировано, меньшая греховность, чем прямое юридическое мошенничество, тогда во втором томе Чичиков «даже более грешен». Но совершенно очевидно, что это противоречит центральному смыслу поэмы (если рассматривать произведение именно как поэму, события в которой имеют существенно иной символический смысл, нежели в авантюрном романе). Тогда становится понятным, что в первом томе парафрастическая реминисценция из «Божественной комедии» Данте не случайно возникает в момент подписания дьявольского контракта, где Чичиков самовольно вступает во владение чужими душами умерших людей, то есть мертвыми душами. Свидетели, подписывая бумаги, используют «такие буквы, каких даже и не видано было в русском алфавите» [VI: 148]. Итак, здесь юридический момент имеет подчиненный характер, символика овладения мертвыми душами совершенно прозрачна. Заметим, у Данте герой, проходя по загробью, не претендует на овладение этими душами. У Гоголя же мы видим русский радикальный парафраз дантовского [39] замысла. Поэтому, как мы полагаем, исследовательское «нарушение» гоголевской иерархии духового и юридического, как она представлена в его поэме, их переворачивание закономерным образом отбрасывает исследователя за границы спектра адекватных истолкований произведения. [40]
* См.: Ревизор. 1835 [Электронный ресурс] // Апарте. Московский драматический театр. URL: https://www.aparte.ru/repertuar/revizor/ (дата обращения: 18.05.2022).
** См.: Нехотина А.§ «Мертвые души»: история пропажи и уничтожения второго тома. Литературовед рассказала о странностях при обыске комнаты Гоголя после его смерти [Электронный ресурс] // Газета.ru. URL: https://www.gazeta.ru/culture/2022/02/24/14568559.shtml?updated/ (дата обращения: 17.05.2022).
*** Там же.
Литература
Аверинцев С. С. София-Логос. Словарь. Киев, 2006.
Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
Есаулов И. А. Интерпретация // Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2001.
Есаулов И. А. Русская классика: новое понимание. 3-е изд. СПб., 2017.
Есаулов И. А. Спектр адекватности в истолковании литературного произведения («Миргород» Н. В. Гоголя). М., 1995.
Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. М., 1972.
Лотман Ю. М. Структура поэтического текста. М., 1970.
Тынянов Ю. Н. Архаисты и новаторы. Л., 1929.
Эйхенбаум Б. М. О прозе. О поэзии. Л., 1986.
ОПУБЛИКОВАНО: Гоголь и его творчество. Спектр интерпретаций. Двадцать вторые Гоголевские чтения. Сборник научных статей по материалам Международной научной конференции М., Новосибирск: Новосиб. изд. дом, 2023. С. 34-40.


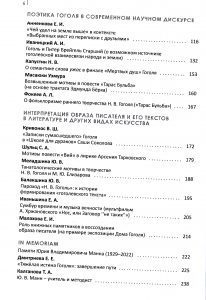
Добавить комментарий