РЕЦЕПЦИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КЛАССИКИ В ПЕРИОД РУССКОЙ КАТАСТРОФЫ
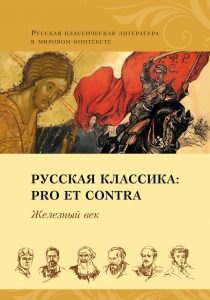
В начале XX века было открыто не только своеобразие русской иконы, не только бурно развивалась как религиозная философия, так и собственно литература, но и произошло переосмысление освобожденных от позитивистских и марксистских «материалистических» пут Пушкина, Гоголя, Достоевского, Тютчева и других русских писателей. Однако освоение их наследия в рамках религиозно-философского дискурса было внутренне противоречивым и вряд ли могло быть способно – в сознании «людей двоящихся мыслей» (Н. Бердяев) – осмыслено во всей полноте. Нужно было, очевидно, обнаружить на месте исторической России сначала руины, а затем и «строительство» небывалой в истории человечества утопии, с одновременной дискредитацией русской духовной традиции, дабы сформулировать, как это сделал М.М. Пришвин в своих тайных дневниках, особый, скрытый смысл «хрестоматийных» произведений отечественной классики: «Наконец-то я дожил до понимания “Капитанской дочки” <…> Моя родина — не Елец, где я родился, не Петербург, где я наладился жить, то и другое для меня теперь археология, моя родина, непревзойденная в простой красоте, в сочетавшейся с нею доброте и мудрости, — моя родина – это повесть Пушкина “Капитанская дочка”» (1) .
Как соотносится «культурный взрыв» (Ю.М. Лотман), в ХХ веке разнесший на куски тысячелетние этические ценности России и постаравшийся уничтожить саму православную сердцевину ее культуры и эволюционное развитие? Каково соотношение континуальности и дискретности в русской культуре? Какой формат дискретности не разрушает, а укрепляет устойчивость системы, а какой – способствует ее разрушению? [9]
На этот счет существуют разные ответы. Так, некоторые полагают, что уже дискретность перехода от Киевской Руси к Московскому царству разрушает вековые структуры повседневной жизни (а также формы культуры), иные же настаивают на их континуальности. Ту же самую многоголосицу можно заметить и в оценке петровских реформ, когда для одних Петр I «первый большевик», а для других – он, прежде всего, православный христианин и патриот-государственник, «вынужденный» жесткими способами в сжатое историческое время реагировать на исторические вызовы, внутренние и внешние.
Наконец, каково соотношение русской, советской и постсоветской культур? Являются ли они, последовательными фазами развития (или, по другой оценке, деградации) одной цивилизации, базирующейся на той ментальности, которая и позволяет говорить о сущностном единстве культуры, либо же мы сталкиваемся с такого рода дискретностью, предполагающей настолько масштабную Катастрофу, что констатировать единство определенной культуры не представляется возможным?
П.А. Сорокин в работе «Кризис нашего времени», являющуюся сокращенным вариантом четырехтомного труда автора «Социальная и культурная динамика» (2), указывал на «три системы истины»: «идеациональную», «идеалистическую» и «чувственную». Используя огромный объем исторического материала, он подчеркивал, что возобладавшая в XIX-XX веках чувственная система истины «отрицает любую Богоявленную сверхчувственную истину», а потому она «неизбежно материалистична… Отсюда общая тенденция материалистического мышления рассматривать мир, даже человека, его культуру и сознание – материалистично» (3).
Однако «чувственная» система истины победила не везде, а в определенном типе культуры. Как раз в пределах этого типа культуры Сорокин отмечает «кризис», уточняя при этом: «это кризис почти всей жизни, образа мыслей и поведения, присущих западному обществу», особо выделяя «возрастающее отрицание вечных ценностей», а также «доктрину релятивизма», согласно которой «не существует ничего абсолютного. Все становится относительным – истина и ошибка, этические и эстетические каноны и многое другое <…> Суждение “все в мире [10] относительно” становится девизом чувственной истины. Отсюда ее негативное отношение к любому постулируемому абсолюту» (4). А.Ф. Лосев в своей «Диалектике мифа» (а также в других работах известного «восьмикнижия») настаивает на том, что уже переход от Средних веков к Новому времени – «эпоха величайшей мировой катастрофы» (5) . Р.А. Гальцева четверть века назад сделала вывод, что «мы вступили в постхристианскую эру и переживаем процесс, обратный тому, который переживало человечество при вхождении христианства в историю», причем «c концом второй мировой войны <…> этап постхристианской культуры перерастает в эру постхристианской цивилизации» (6) .
Понятно поэтому, что типы культур, базирующиеся на иных (духовных) основаниях, рано или поздно вступают в конфликт с преобладающей «материалистической» цивилизацией. Еще И.А. Ильин отмечал известную близость «советской» и «западной» цивилизации: «Марксизм для них “свое” европейское, приемлемое: и советский коммунист для них ближе и понятнее, чем Серафим Саровский, Суворов, Петр Великий, Пушкин, Чайковский и Менделеев». Поэтому, «когда Европа увидела, что Россия стала жертвой большевистской революции, то она решила, что это есть торжество европейской цивилизации <…> что советский коммунизм означает “прогресс” и “успокоение” для Европы» (7) . Используя терминологию Сорокина, можно сказать, что «восточно-русская культура» основывается на идеациональной аксиологии с ее «абсолютом» (или же, по А.Ф. Лосеву, «абсолютной мифологией» (8)): православной верой.
Отсюда совершенно закономерно, что наиболее радикальные, наиболее разрушительные для традиционных структур повседневности и русской культуры как таковой революционные эксперименты раннебольшевицкой «Культуры 1» (Вл. Паперный) были с полным сочувствием и пониманием восприняты на «капиталистическом» Западе. Например, А.И. Солженицын обращает внимание на то, что большевицкая Революция была «почтительно признана китом западной демократии – Соединенными [11] Штатами» (9) только после полного ее завершения – в начале 30-х гг., т.е. когда ею была полностью переформатирована русская повседневность. Так, различные творческие эксперименты «Культуры 1» являются своего рода антиципацией тех цивилизационных процессов, которые затем станут культурным мейнстримом для «мира Запада». Поэтому «Культура 1», насаждавшаяся большевицким государством, законодательно отвергнувшим православное прошлое, является только лишь своего рода вершиной общего процесса дехристианизации, с особой брутальностью утвердившейся в пределах бывшей Российской империи.
Тогда как любые попытки «возвращения» к досоветским (т.е. русским) «структурам повседневности» – подлинным и иллюзорным (в философии, культуре, словесности, равно как в истории и политике), а также его имитацию «Культурой 2» – от 30-х гг. прошлого века до 10-х гг. века нынешнего – «международная общественность» воспринимает с явной настороженностью, а то и с враждебностью. В конце XX – начале XXI вв. вновь актуализировались начатые сразу же после завершения Второй мировой «битвы за историю» (Л. Февр (10)), доминантный вектор которых сжато передал в свое время А.Я. Гуревич несколько вызывающей формулой, которая сама является производной переживаемого нами «малого времени»: «мир никогда не был христианским» (11) .
Отсюда и новые попытки – как в постсоветской РФ, так и в «мире Запада» – «десакрализации» Пушкина, Гоголя, Достоевского – особенно их «реакционной» православной веры, а также «неправильных» (т.е. выходящих за жесткие рамки «демократических» стандартов современной интеллектуальной мифологии) представлений о русском самодержавии, русском народе и судьбе России. Параллельно этой «десакрализации» происходит весьма настойчивое, если не сказать агрессивное, внедрение собственных кумиров.
Рассуждая об адекватной своему предмету рецепции русской классики, необходимо, в первую очередь, определиться с контекстами ее понимания. М. М. Бахтин, рассуждая о методологии гуманитарных наук, в свое время принципиально разграничивал [12] поставил проблему «контекстов понимания». При этом разграничиваются малое время современности и большое время, близкий контекст понимания и далекий контекст.
Конечно, совершенно ясно, что как творчество одного и того же автора, так и одно и то же художественное произведение могут одновременно принадлежать разным силовым линиям культуры, разным контекстам осмысления. Русская классика потому и классика, что может быть рассмотрена при помощи различной научной оптики. Так, роман «Бесы» — это полемический отклик на «передовое и прогрессивное» движение 60–х годов с его идеями революции, атеизма и социализма, занимающее вполне определенное место в определенном периоде истории русской литературы, и, одновременно, «мифопоэтическая модель мира». «Война и мир» — дистанцированное художественное осмысление войны 1812 года, и в то же время изображение войны и мира вообще — как универсальных состояний бытия.
Таким образом, выделяются два подхода к пониманию художественного произведения: «историко-литературный» и мифопоэтический, которые при конкретном анализе чаще всего контаминируются. Однако возможен и третий подход, вытекающий из постулата существования различных типов культур, типов ментальностей, которые оказывают глубинное воздействие на создание и функционирование того или иного произведения искусства.
Тот же Бахтин, как известно, акцентировал особую «нелитературность» Рабле, указывая при этом, что «образы Рабле окажутся у себя дома в тысячелетиях развития народной культуры» (12). Пытаясь определить своеобразие русской литературы, прежде всего, вероятно, нужно эксплицировать тот тип культуры, в котором эта литература оказалась бы «у себя дома». По-видимому, и у русской литературы имеется некоторый «далекий контекст понимания», не сводимый ни к мифопоэтической прародине, ни к псевдогенетическим обобщениям «малого времени». Это такая трансисторическая длительность, которая может быть осмыслена через доминанты русской православной культуры.
Именно подобная перспектива и угадывалась некоторой частью русских изгнанников, которые обращались к русской классике. В этой смысловой перспективе стало возможно Пушкина осмыслить как «поэта Империи и свободы» (Г. Федотов). В том же «третьем» измерении – как по отношению как к «малому» времени, так и к генерализациям «общечеловеческих» абстракций, [13] насаждаемых еще этой Просвещения – была переосмыслена и русская классика в целом.
C изменением культурного контекста законченный и многократно обсужденный современниками текст может обрести новые смыслы. В этом-то и состоит одна из существеннейших особенностей человеческой культуры. Так, юбилей Пушкина 1937 года, как известно, очень по-разному отмечался русскими беженцами в странах рассеяния и в СССР. Остановимся для иллюстрации этого тезиса на Пушкинской речи И. Шмелёва.
В работах, обращенных к этому тексту, как правило, непременно обращается внимание на второй тезис этой речи – о «тайне Пушкина». Как известно, по мнению Достоевского, «Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот, мы теперь без него эту тайну разгадываем» (13). Именно этими предложениями и заканчивается знаменитая речь Достоевского. Шмелев задается вопросом – «так ли это»? (14). Ответ Шмелева заключается в том, что «эту тайну мы как будто разгадали». Однако, повторюсь, это второй тезис речи Шмелева. И, что немаловажно, полемические по отношению к Достоевскому утверждения Шмелев начинает следующим образом: «Достоевский сказал еще “Пушкин умер в полном развитии…”» – и так далее. «Сказал еще…».
Потому что первый тезис этой речи – на который как раз менее всего обращают внимание – это полное согласие Шмелева с Достоевским. Довольно странно, если не сказать – забавно, что этот момент – с которого, собственно, и начинается-то Пушкинская речь – как-то совершенно не привлекает наших исследователей. Первое предложение: «Пушкин, — сказал Достоевский в своей московской речи.., — преклонился перед правдой русского народа». И этот-то тезис Шмелев разворачивает – совершенно в духе Достоевского, но с некоторой, как выразился по другому случаю Георгий Адамович, «заклинательной волей» (15): «Что же это за правда? – А вот, самый тот путь, принятый нами от купели, — нести в мир Правду (слово «Правда» у Шмелева с большой буквы. – И.Е.), всех и вся примиряющую, Божиим святить мир (слово «Божиим» выделено Шмелевым. – И.Е.). Эту правду раскрывали Гоголь и Достоевский. На ней строил свою систему Вл. Соловьев». Совершенно ясно, что эта «Божия [14] правда», по Шмелеву, не есть только лишь индивидуальная особенность Пушкина, но есть столбовая дорогая русской литературы как таковой. И вообще – русской культуры как таковой.
Как в другой своей статье («Творчество А.П. Чехова») заметил Шмелев, русская литература вышла вовсе не из «Шинели» Гоголя, а «вышла из духовной сущности русского народа, из его томления по “правде Божией” на земле, из его веры в эту правду, из его исканий этой правды, при всем его метании “от Мадонны к Содому”, по словам Достоевского. Особенность русской культуры – в ее истоке (курсив Шмелева. – И.Е.) Русская культура – “запечатленная” печатью тысячелетий: крещением в православие. Этим и определяется духовная сущность русского народа, его истории и просвещения» (16) . Сказано так ясно и недвусмысленно, что невозможно этот смысл, казалось бы, игнорировать. Однако советское литературоведение, как и в целом гуманитарные науки, исхитрялись и не такое представлять в противоположном авторской интенции виде. Поэтому не надо удивляться, что центральный момент речи Шмелева как бы не замечается вовсе.
Итак, «правда русского народа», она же «Божия правда», она же правда, «принятая нами от купели» Православия, – именно это главное в Пушкине, что стало ясно русским изгнанникам. Стало ясно, в частности, потому что в Совдепии, как советское государство называли изгнанники (17) , была насильственно прервана почти тысячелетняя русская история; этого, разумеется, не мог и помыслить Достоевский, просто оттого, что он жил в православной России. Однако для русских беженцев, как, впрочем, и для многих подневольных русских людей, именно это стало совершенной очевидностью.
Мы имеем дело с разным, даже противоположном отношении самому понятию «родина» (в ее вневременной, трансисторической сущности). В отличие от эмиграции третьей волны – с ее неприятием не советского миропорядка и его культуры (значительная часть ее была из привилегированных советских семей, из «центровой образованщины», по выражению А.И. Солженицына), а исторической России, – для русских беженцев времен изгнания как раз слово родина было ключевым концептом в их осмыслении духовной сущности России. И, разумеется, этот концепт имел безусловно позитивные коннотации. [15]
Вслушаемся в музыку речи Шмелева, обращая внимание на корневое «…род…»: читая Пушкина, «мы у себя, в России, мы – снова мы. Он берет нас очарованием приРОЖДенной правды, которая называется РОДное. Это наша РОДимая стихия – душевность и простота, ласка РОДного слова». Невероятная частотность, согласимся. Даже порой можно констатировать некоторую языковую игру с тем же корневым ядром: «Няня – РОДное, нас воспитавшее… И слышится нам, что няня – не только Арина РОДионовна, это – РОДимая стихия, РОДник духовный…».
Любопытно, что высказанное в Пушкинской речи убеждение Шмелева о том, что для значительной части советской элиты – во всяком случае, в первые 15-20 лет советской власти, «слово родина не звучит никак» (конечно, Шмелёв имел в виду именно и только Россию) — невольно доказывают некоторые советские авторы, например, Лидия Гинзбург. В дневнике середины двадцатых годов ХХ в. Гинзбург записала: «Внутри Союза Украина, Грузия фигурируют как Украина, Грузия, но Россия – слово не одобренное цензурой…» (18). Вл. Паперный констатирует, что и «…в 1934 году слова “Россия” и “русские” все еще несли на себе груз отрицательных значений» (19). Для кого же эти слова несли такой «груз»? Конечно, для советского государства и для культурной элиты этого государства. Как вспоминает Солженицын уже в 2002 году, «…да и даже само слово “русский”, сказать “я русский” – звучало контрреволюционным вызовом, это-то я хорошо помню и по себе, по школьному своему детству…» (20). Можно ли представить в какой-либо советской хрестоматии не только шмелевский текст, но и даже и Пушкинскую речь Достоевского (с его словами о «правде русского народа»)? Как весьма откровенно заметил В.Б Шкловский на I Cъезде советских писателей, появись там Достоевский, «мы могли бы его судить как наследники человечества, как люди, которые судят изменника…» (21).
Новые смыслы русской классики смогли быть выявлены русской эмиграцией именно потому, что за дистанцией «малого времени», разделяющей их от «золотого века» нашего Отечества было угадано несомненное внутреннее родство с духовными доминантами «вечной» России.
Здесь невозможно, по-видимому, обойтись без понятия культурное бессознательное (22). Дело в том, что именно Достоевский — задолго до Фрейда и Юнга — писал о значении бессознательного в художественном творчестве, однако для Достоевского актуальна была христианская основа бессознательного. Напомню: «Можно многое не сознавать, а лишь чувствовать. Можно очень много знать бессознательно <…> Говорят, русский народ плохо знает Евангелие, не знает основных правил веры <…> но Христа он знает и носит в сердце своем искони. Может быть, единственная любовь народа нашего есть Христос <…> Повторю: можно очень много знать бессознательно» (23) . И еще: «Я утверждаю, что народ наш просветился уже давно, приняв в свою суть Христа и учение Его. Мне скажут: он учения Христова не знает <…> но это возражение пустое: всё знает, всё то, что именно нужно знать, хотя и не выдержит экзамена из катехизиса. Научился же в храмах, где веками слышал молитвы и гимны… Знает тоже он наизусть многие из житий святых, пересказывает и слушает их с умилением» (24).
Именно этот момент – «культурное бессознательное» — неоднократно акцентирует Шмелев в своей Пушкинской речи. Так, называя нашу «миссию» — «пронизать мир Божией Правдой», — он замечает, что это «инстинкт нашего бытия». Он утверждает, что «мы любим Пушкина – и многие – бессознательно. И, может быть, лучше что бессознательно, зато непосредственно и крепко. Не потому ли, что в нем все отвечает какому-то властному в нас инстинкту?». Подчеркну, что этот «инстинкт», по Шмелеву, — «пронизать мир Божией Правдой». Имеет ли это отношение к творчеству Пушкина? С точки зрения не только Шмелева, но и, например, И. Ильина, вне всякого сомнения. Более того, это «бессознательное» или «инстинкт» в художественном творчестве выше и глубже ratio. Рассуждая о «Путях небесных», Иван Ильин писал: «это первый, так сказать, сознательно-православный роман в русской литературе. Бессознательно – было православно всё лучшее, что создала русская литература» (25) . «Всё лучшее»! Однако чтобы научно выявить это культурное бессознательное необходима, по-видимому, помимо прочего, и особая рецептивная установка, созвучная доминантным ценностям того русского мира, который и воссоздают в своем творчестве Пушкин, Гоголь, Достоевский. Эмиграция первой волны, будучи лишенной «тела» [17] России, смогла («большое видится на расстояньи») – зато! — подумать над тем «общим знаменателем», который и делает русскую литературу – русской, а также свободно поделиться своими выводами.
Обращение к «большому времени» русской культуры позволяет, например, увидеть не только пресловутый антагонизм “дворянского” и “народного” (который усматривали в “Капитанской дочке” целые поколения советских литературоведов), но и то общее, что объединяло, несмотря на социальную дистанцию, Гринева, Пугачева, Екатерину Великую. Именно это “общее” или “главное”, что, собственно, доминировало в русской культуре, планомерно выжигалось в советские двадцатые и тридцатые годы. Это, прежде всего, единый русский мир, который – при всем резком своеобразии своих социальных и сословных ярусов – базировался на единых ценностях, выросших на почве христианской традиции. Поэтому “голоса” противоборствующих сторон в этой повести – в рамках тех “больших длительностей”, которые исследовал Ф. Бродель, – могут быть истолкованы не как взаимоисключающие друг друга (как полагал, например, Ю.М. Лотман), а как взаимодополняющие “голоса” этого единого мира.
В большом времени русской культуры совершенно иначе могут истолковываться, нежели интерпретировались до сих пор, и другие знаковые противостояния (например, Ф.М. Достоевского и К.Н. Леонтьева, либо же общества “Арзамас” и “Беседы любителей русского слова”). Если, к примеру, сегодня нет нужды в “реабилитации” арзамасцев (симпатии к ним настолько очевидны, что не нуждаются в особой аргументации), то литературоведу XXI века все-таки странно так ограничивать свое ведение “малым временем” рассматриваемого противостояния, что не замечать и известной правоты “беседчиков”. Эти – и подобные им – противостояния на самом деле свидетельствуют о многомерности и многосложности единого русского мiра, порожденного пасхальной ветвью кирилло-мефодиевского типа культуры.
Во всяком случае, совершенно ясно, что позиция А.С. Шишкова, согласно которой христианская традиция – это не старая ветошь, место которой – в давнопрошедшем историческом времени, а такая заданность, которую “еще предстоит создать”, не только была близка Ап. Григорьеву, отстаивавшему “архаические новаторства” молодой редакции “Москвитянина”, как это справедливо подчеркнул Б.А. Успенский (26) , но и оказалась [18] созвучна русской религиозной и художественной мысли начала XX в. (достаточно вспомнить здесь “архаические новаторства” Вяч. Иванова).
Сама же полемика “Арзамаса” и “Беседы любителей русского слова” (как и спор Достоевского с Леонтьевым) могут быть поняты как весьма продуктивный для русской культуры диалог различных голосов, который лишь в “малом времени” их современности (а также в тотально идеологизированном советском литературоведении) представлялся как непримиримо враждебный. Например, в проекте Устава общества «Арзамас» в первом же пункте формулируется следующая «цель Арзамаса»: «польза отечества» (27). Вряд ли представители «Беседы» имели какие-то возражения против подобной цели. В речи М.Ф. Орлова при вступлении в «Арзамас» речь идет о «теплой любви к стране Русской» (28). В.А. Жуковский («Светлана») без всякого приписываемого арзамасцам будто бы непременного антицерковного ерничества обращается к друзьям так: «Перестаньте беседничать, мои ангелы, скоро Светлое Воскресение! <…> А я вам говорю: Христос Воскресе!» (29). С другой стороны, арзамасцы Н. М. Карамзин и В. А. Жуковский были избраны в Российскую Академию (как раз по предложению их «врага» А.С. Шишкова!). Как известно, постепенно и другие участники «Арзамаса» стали членами Российской академии по рекомендации того же Шишкова.
Такого рода диалог (предложенный нами контекст его понимания не был доступен – и не мог быть доступен – самим непосредственным участникам литературного спора) становился катализатором мощного развития русской литературы, позволившим ей избежать той или иной «односторонности» и – в итоге, – не утеряв своего православного духовного основания, обрести и вселенское, а не только «местное» звучание.
Является ли репликой такого же по своему типу “диалога” культурная и научная продукция наиболее радикальных художественных течений “Культуры 1″ советского ХХ века, таких, например, как ОПОЯЗ или ЛЕФ, когда они обращаются к русской классике? Тех, кто, согласно Вл. Паперному, “ведут борьбу с Порядком во имя Хаоса”? Ср.: “В живописи борьбу со словом ведут Кандинский и Малевич. В театре – Мейерхольд и Таиров <...> В христианской традиции за Словом стоит “В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог” <...> Поэтому борьбу [19] Культуры 1 со словом можно рассматривать в одном ряду с другими ее антихристианскими акциями – разрушением церквей, икон, снятием крестов, вскрытием мощей – и т.д.” (30). Может ли тыняновское словосочетание “борьба и смена” (т.е. представление о творческом процессе как о перманентных “культурных взрывах”), в гораздо большей степени характеризующее именно “революцию”, а отнюдь не “литературную эволюцию”, быть продуктивно для поступательного развития национальной культуры? Либо же стремление “взорвать” структуры повседневности, акцентуация скачкообразности (“хода конем”, согласно В.Б. Шкловскому) и в целом резко негативное отношение к культурной стабильности оттого и оказалось столь созвучным “левым” западным интеллектуалам – от довоенных до послевоенных, вроде М. Фуко (с выдвинутым им категорией “эпистемологического разрыва”), что базируется на дискретности исторического процесса, поскольку имеет общий знаменатель: негативное отношение к национальным, религиозным и культурным традициям, продолжая тем самым упомянутые выше “битвы за историю”? По-видимому, последнее все-таки вернее.
Тем не менее, советский вариант прочтения русской литературы имеет свою дореволюционную генеалогию. Не требует особых доказательств, что советское литературоведение с удовольствием подхватило и вульгаризировало революционно-демократическую мифологию в истолковании русской литературы. Здесь не место представлять реестр совпадений и расхождений между позициями «революционных демократов» XIX века и советских историков литературы. Наметим лишь некоторые общие «силовые линии», причем достаточно очевидные, связывающие господствующее в прошлом веке критическое направление, ни на какую научность не претендующее, и сконструированную позднее «историю литературы», как раз эту научность пытающуюся монополизировать. Эта общность базируется на своеобразной аксиологии, которой и определяется отношение к русской словесности, к истории России, а также к доминантному для отечественной культуры типу христианской духовности.
Еще в 1909 году П. Б. Струве в сборнике «Вехи» подчеркивал: «В 60-х годах, с их развитием журналистики и публицистики, “интеллигенция” явственно отделяется от образованного класса как нечто духовно особое. Замечательно, что наша национальная литература остается областью, которую интеллигенция [20] не может захватить. Великие писатели Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Достоевский, Чехов не носят интеллигентского лика» (31).
Ему вторил М. О. Гершензон: «С первого пробуждения сознательной мысли интеллигент становился рабом политики, только о ней думал, читал и спорил, ее одну искал во всем — в чужой личности, как и в искусстве, и проживал жизнь настоящим узником, не видя Божьего света… <…> Свободны были… наши великие художники, и, естественно, чем подлиннее был талант, тем ненавистнее были ему шоры интеллигентской общественно-утилитарной морали, так что силу художественного гения у нас почти безошибочно можно было измерять степенью его ненависти к интеллигенции: достаточно назвать гениальнейших — Л. Толстого и Достоевского, Тютчева и Фета… <…> То, чем жила интеллигенция, для них словно не существовало…» (32). Радикальное расхождение ценностных ориентаций неизбежно приводило к тому, что «интеллигенция… в лице своих духовных вождей — критиков и публицистов — …творила партийный суд над свободной истиной творчества и выносила приговоры…» (33).
В знаменитом письме «отца русской интеллигенции» Белинского к Гоголю, «этом пламенном и классическом выражении интеллигентского настроения» (34), не случайно воспринятом Герценом как «завещание» критика, можно увидеть именно такой «приговор», где действительно классически выразилось горестное не только для науки о литературе, но и для последующей судьбы России фундаментальное расхождение противоположных аксиологий. Ведь письмо Белинского к Гоголю предполагает что угодно, только не подлинное понимание вектора духовного развития Гоголя. Напротив, это письмо задает совершенно противоположную перспективу: непонимания Гоголя. К сожалению, именно этот вектор (прямо противоположный авторским интенциям) непонимания Гоголя и стал основой для его последующего изучения и объяснения в «стране победившего социализма». Одновременно это «письмо» своего рода манифест отношения к русским писателям — в том случае, когда они открыто утверждают православные христианские первоосновы русского бытия. [21]
Столкновение «прогрессивной» журналистики, поддерживаемой интеллигенцией, с магистральной осью русской художественной литературы, драматически для русской классики продолженное и усугубленное в советское время, вряд ли объяснимо несовпадением только политических и эстетических ориентиров. Оно имеет в своей глубине религиозные основания.
Именно этот момент подчеркнул С. Н. Булгаков в своей веховской статье “Героизм и подвижничество”. Он, в начале трагического для России ХХ столетия уже вынужденный специально доказывать, что “народное мировоззрение и духовный уклад определяется христианской верой” (35) , сопоставляя понимание “души народной, которое Достоевский разделяет с крупнейшими русскими художниками и мыслителями” (36) , и типичное “интеллигентское воззрение”, приходит к неутешительному выводу, что “в этом-то центральном пункте ко всему, что касается веры народной, интеллигенция относилась и относится с полным непониманием и даже презрением… Влияние интеллигенции выражается прежде всего в том, что она, разрушая народную религию, разлагает и народную душу, сдвигает ее с ее незыблемых доселе вековых оснований” (37). В свою очередь, “разрушение в народе вековых религиозно-нравственных устоев освобождает в нем темные стихии, которых так много в русской истории” (38).
Все остальное (подчеркиваемая С. Л. Франком “этика нигилизма”, акцентируемое П. Б. Струве “безрелигиозное отщепенство от государства”, либо констатируемый самим С. Н. Булгаковым раскол России “на две несоединимые половины, на правый и левый блок, на черносотенство и красносотенство”) (39) является лишь следствием того факта, что “интеллигенция отвергла Христа, она отвернулась от Его лика, исторгла из сердца своего Его образ” (40). [22]
Разумеется, в задачи данной вводной статьи не входит критический анализ веховских идей и определение меры корректности инвектив веховских авторов по поводу русской интеллигенции в ее целом. Однако же без подобного “культурологического” расширения нашей темы, которое может показаться неоправданным, хотя оно и намечено нами по необходимости тезисно, наиболее существенные “силовые линии”, связывающие революционно-демократическую критику и советских литературоведов, были бы неправомерно суженными рамками “литературоцентризма” и тем самым искаженными.
При всем отличии русской интеллигенции и советской “образованщины”, проанализированными в начале 70-х годов А. И. Солженицыным (41), отвержение Христа, на которое указал С. Н. Булгаков, и непосредственно связанное с этим отвержением разрушение вековых народных религиозно-нравственных устоев приняло в послереволюционное время настолько резкий и воинствующий характер в гуманитарной сфере (42) (отдельные исключения здесь только подтверждают общее правило), что не могло самым решительным образом не определить установки исследователей, изучающих историю России и историю русской литературы.
Нет необходимости специально останавливаться на многочисленных общих следствиях такого рода установки (например, на том поразительном факте, что годы “реакции” — по оценочному определению исследователей — в истории России странным образом практически всегда в действительности оказываются периодами ее государственной стабильности; крайним выражением той же тенденции является известный тезис российских социал-демократов о желательности поражения России “во всякой войне”.
Обратимся к конкретному литературоведческому материалу. Изучая историю советского литературоведения, нельзя забывать, что сам «научный» дискурс строился не вокруг описания непосредственного предмета своего изучения, а имел совершенно иные цели и задачи, вытекавшие из того, что наука о литературе – идеологическая дисциплина «страны победившего социализма». Каркасом советской истории литературы стали [23] ленинские положения из статьи «Памяти Герцена». Отношение – не только политическое, но и аксиологическое – к русской истории и русской культуре ведущих политических деятелей СССР оказало куда более значительное воздействие на представления о русской классике, нежели собственно филологические изыскания.
М. Горький в своей “Истории русской литературы” превозносит “великолепнейшую и, может быть, наиболее социально-плодотворную линию русской литературы — линию обличительно-реалистическую” (43). Но отнюдь не она определяет, по его мнению, русскую литературу, в которой преобладает совсем иное начало. Согласно Горькому, “огромное большинство русских писателей” были “отчаянными демагогами, которые всячески льстили народу” (44). Напомним, что для Горького “мещане” Толстой и Достоевский “оказали плохую услугу своей темной, несчастной стране” как раз “проповедью терпения, примирения, прощения, оправдания…”, то есть утверждением именно христианских ценностей. “Они хотят примирить мучителя и мученика… Они учат мучеников терпению… они обещают народу вознаграждение за труд и муки на небесах… Это, — пишет Горький, — преступная работа, она задерживает правильное развитие прогресса…” (45).
Несмотря на последующую постепенную корректировку горьковского радикализма в построении истории отечественной словесности, именно “обличительная” линия, как известно, совершенно закономерным образом представлялась в качестве доминантного вектора развития русской дооктябрьской литературы в целом.
Сам термин «критический реализм», на долгие годы ставший фактически идеологической директивой в «объяснении» русского «дореволюционного» наследия, был введен тем же М. Горьким в докладе на Первом съезде советских писателей в 1934 году. Он имел изначально оценочный характер. По отношению к иной «линии» дореволюционной, но «некритической» русской литературы (Горький называл ее «мещанской») – «критический реализм» был «прогрессивным», однако в условиях социалистической действительности он, по словам Горького, «необходим нам только для освещения пережитков прошлого, для борьбы с ними, вытравления их. Но эта форма реализма не послужила и не [24] могла служить воспитанию социалистической индивидуальности, ибо – всё критикуя, она ничего не утверждала, или же – в худших случаях – возвращалась к тому, что ею же отрицалось» (46). Оценочность термина оставалась неизменной на протяжении всего советского периода русской истории, хотя и ставилась порой в самые различные политические и культурные контексты.
Истоки понимания русской литературы XIX века как литературы критического реализма имеют аксиологическую смысловую парадигму, базирующуюся на определенном отношении к дореволюционному христианскому прошлому страны. Это отношение имеет внеположный научному, относясь к особой разновидности «относительной мифологии» (А.Ф. Лосев) (47). Реакционными обозначаются все те литературные явления, в которых можно заподозрить движение “от радикализма и демократизма в сторону охраны и защиты буржуазного “порядка” (из доклада М. Горького на Первом съезде советских писателей) (48). Напротив, прогрессивно все то, что так или иначе оппозиционно православному “порядку” Российской империи (49). При этом чем выше степень “радикализма”, тем “прогрессивней” тот или иной писатель, общественный деятель или литературный критик.
При такой аксиологической установке сам литературный процесс, а также творчество отдельных авторов описываются в соответствии с общественно-исторической схемой последовательного прогрессистского, т.е. “освободительного” движения в России (ленинские «этапы», навсегда ставшие каркасом советского варианта “истории русской литературы”, являются в этом смысле хотя и определявшим «методологическую» установку, но все-таки частным случаем).
В докладе Горького на Первом съезде писателей негативная оценочность досоветского периода еще находится в чистом и незамутненном виде — в полном соответствии с идеологическими [25] установками первых пятнадцати-двадцати послереволюционных лет. “Основная тема русской литературы XIX столетия — личность в ее противопоставлении обществу, государству, природе…“ (50).
Впоследствии же – в некотором противоречии с горьковским определением «прогрессивной» линии «русской буржуазной литературы» — подобной ясности в историях русской литературы мы уже не увидим. Однако незыблемой остается сама аксиологическая установка, при помощи которой модернизируется данная мифологическая конструкция.
Но эта аксиология целиком и полностью находится в пределах “мифа”, точнее же, “левого мифа”, если вспомнить хотя бы градацию Ролана Барта. О степени ее адекватности действительной истории русской литературы можно судить хотя бы по тому выразительному факту, что наиболее зрелые поздние произведения не каких-то второстепенных писателей, но Пушкина, Гоголя, Достоевского были “не прочитаны”, а то и отвергнуты “передовой и прогрессивной” демократической русской критикой именно потому, что совершенно противоречили логике левого мифа.
Речь идет о сциентистском обеспечении советской разновидности левого мифа, включающей в себя стереотипные для советской исторической науки и литературоведения представления об “освободительном” движении в России, а также о роли Церкви в русской культуре, сформированные в пределах марксистского материалистического мышления. Особенно важно подчеркнуть то обстоятельство, что и представители “официальной” советской гуманитарной науки, и осторожно оппонирующие ей годы внутренние “диссиденты” в громадном большинстве своем находились “внутри” единой по своей сути мифологии, разделяя все ее важнейшие доминантные установки.
Могут возразить, что в лучших работах, созданных в СССР, русская литература истолковывается вполне аутентично. И имеются же значительные успехи, которые невозможно отрицать: например, в изучении стихосложения, текстологического сопровождения издания классики и т.д. Что касается текстологии, то следует заметить, что русская классика XVIII-XX века подверглась в послереволюционных изданиях тотальному переложению на «советский» язык – новое правописание (51). С того времени [26] и до сего дня русская литература даже в академических изданиях воспроизводится – за редчайшими исключениями (52) — не в авторской орфографии и пунктуации, а в переводе на «советский» язык, подвергшись при этом редакторской правке, что тормозит научное изучение и адекватное понимание отечественной литературы.
Здесь не место рассматривать в целом общетеоретические положения, однако же в тех работах, где рассматривалась русская классическая литература, неизбежно — в той или иной степени – проявлялось искажающее адекватное понимание русской литературы «малое время» советской действительности, иной раз, увы, более чем созвучное аксиологическим установкам исследователей.
Приведем некоторые примеры. Б.М. Эйхенбаум в статье «Как сделана “Шинель” Гоголя», рассуждая о «гуманном месте» как «побочном» приеме, не только ни разу не приводит гоголевские слова «Я брат твой», отсылающие к христианской традиции, но и отзывается о содержании этого «места» как о «сентиментальном и намеренно примитивном» (53). Подобная «примитивизация», по-видимому, больше свидетельствует о собственной системе ценностей субъекта объяснения, нежели адекватно описывает «объясняемый» им предмет.
Обращает на себя резкая избирательность по отношению к русскому культурному наследию со стороны деятелей ОПОЯЗа. Вполне можно проследить что и почему именно из русской традиции принимается формалистами, а что и, главное, почему агрессивно отвергается.
Например, тот же Эйхенбаум замечал в частном письме: «…не знаю, что делать со всеми этими “языкознаниями”, с этим погружением в старинные списки и евангелия для изучения того, [27] какую судьбу претерпел «юс» или «ер». Не могу. Претит» (54). Он же в «Моем временнике» пишет: «Славяно-русская культура не пришлась мне по душе. Даже “Слово о полку Игореве” меня тогда не взволновало…» (55). Тогда как в другом письме тот же Эйхенбаум, например, замечает: «Купил всего Heine (новейшее изд., 4 тома…) за 3 р. 30 копеек.., я так мечтал об этом, что кажется, самая комната моя переменилась с тех пор, как у меня лежит Heine – как-то уютней стало» (56). Как не без основания в данном случае замечает Кертис, и в этом случае Гейне «был ролевой моделью – поэтому Эйхенбаум и получает наслаждение от одного присутствия тома Гейне в своей комнате» (57). Можно предположить, что, например, идеологические симпатии к «Арзамасу» отчасти объясняются в этом кругу именно «борьбой» последнего со «славянщиной» архаистов, которая переносилась ОПОЯЗом в новую историческую эпоху как борьба с традицией.
Та группа советских филологов, которую Эйхенбаум называет «нашим поколением», не только стремилась к лидерству в рядах новой большевистской элиты, куда она неоспоримо входила (58), но и хотела обосновать свое «право» на одно из первых мест в «большом времени» русской истории и, главным образом, литературы. Но как можно было это сделать в то время? Как – в условиях, когда провозглашался во всех областях жизни (не только в идеологии верхнего эшелона советского социума, но и в повседневности большинства) полный, кардинальный разрыв с «проклятым самодержавным прошлым» России (т.е. с русской историей последних нескольких столетий)? [28]
Логически рассуждая, здесь возможны два пути. Первый: объявить любую культурную преемственность эпигонской по своей сути, выдвинув категорию разрыва (который и провозглашался в двадцатые годы по отношению к русской истории) принципом не только революции, но и любой эволюции (в отличие от «эпигонства»). Второй: в предшествующих историко-литературных явлениях пытаться отыскать себе такого рода «опору», которая бы, так сказать, «легитимировала» собственное «право» на культурное и интеллектуальное лидерство, объявить себя (именно себя) наследниками «мейстримного» доминантного вектора русской (литературной) жизни. ОПОЯЗовцы попытались совместить две эти различные возможности.
Здесь нужно учитывать еще и следующее. Тот и другой варианты базировались на резком противопоставлении художественной литературы общекультурной «повседневности» (общего поля для носителей национальной культуры). Например, в тыняновской оппозиции «поэтического» языка языку прозаическому эксплицировалось именно это противопоставление.
Литературные явления изымались при их «изучении» из своего контекста («большого времени» русской истории и культуры), ограничивались «малым временем» печатной и устной полемики с современниками (того, что Бахтин назвал «газетно-журнальной шумихой»). При этом происходила тотальная трансформация изучаемого «материала» (ибо, лишенный «родного» – основного – культурного контекста, он помещался в какой-то совсем иной – добавочный – «контекст»; происходило выдвижение маргинальных факторов в центр изучения, тогда как доминантные категории и понятия (присущие именно общему полю носителей культуры) принципиально игнорировались. Именно поэтому Эйхенбаум и отказывался считать сколько-нибудь существенной для гоголевской «Шинели» категорию христианского братства («Я же брат ваш»), выдвигая вместо этого безличное сопоставление «анекдота» и «сказа».
Замечательно сформулировал суть этой трансформации о. П. Флоренский в совсем недавно опубликованном письме близкому человеку из Соловецкого лагеря особого назначения о новых хозяевах жизни: « <...> читая новый не то роман, не то биографию Тынянова “Пушкин” в “Литературн. современнике”. Там много конкретных подробностей из жизни литерат. кругов конца XVIII и нач. XIX в.: вероятно большая часть материала фактична. Общий тон мне не нравится — обычное для новых писателей стремление подмарать и лягнуть там, где не могут сказать [29] плохого ответственно. М.б., все что пишет Тынянов и верно или правдоподобно, но целое — совсем не верно: кривое зеркало, передающее каждую из черт лица саму по себе только слегка искаженно, а все лицо — неузнаваемым» (59). Следует признать, что эта «работа с материалом», суть которой верно подметил Флоренский, по-своему филигранна: литературное мастерство Тынянова в данном случае состоит именно в том, чтобы «верно или правдоподобно» (или лишь только «слегка искаженно») интерпретировать «конкретные подробности» русской литературы и истории, однако так интерпретировать, что в итоге перед читателем предстает некий сконструированный самим Тыняновым продукт, в том свете, в каком он бы хотел его видеть, но отнюдь не сама реальность в ее целом («целое»).
Приведу еще один показательный пример. В программной работе «Архаисты и Пушкин» Ю.Н. Тынянов пишет: «До 1818 г. Пушкин может быть назван правоверным арзамасцем-карамзинистом… Лицейский Пушкин – весь во власти “Арзамаса”. Он втянут в борьбу с “Беседой” и отзывается на нее в стихах, заметках, письмах. Влияние карамзинистов сказывается в особенности в ранней эпистолярной прозе Пушкина. Ср. его первое письмо к Вяземскому от 1816 г., пересыпанное шутливыми перифразами.., стиховыми вставками, интонациями восклицания, — все типичными чертами эпистолярного стиля карамзинистов… В этом же письме Пушкин канонически шутит над “покойной” Академией и “Беседой губителей российского слова”» (60). Как будто бы Тынянов только пересказывает письмо Пушкина, практически ничего не добавляя от себя. Однако же, если мы обратимся к цитируемому им письму Пушкина Вяземскому от 27 марта 1816 года, то прочитаем у Пушкина: «… недавно говел и исповедовался…» (61), но именно этот – вполне серьезный – аспект письма исследователь совершенно никак не комментирует. Очевидно, перед нами не только характерная «фигура умолчания», не только специфическая «интерпретация» пушкинского письма, но и искажение сути дела.
Поэтому история освоения ОПОЯЗом русской классики может быть истолкована как частный, хотя и очень важный пример общего процесса вытеснения одной культуры (русской) другой – советской. В этом смысле любопытно суждение американского [30] русиста Кертиса, уже цитированного выше: «формалисты отнимают… русскую классику», так как «подтекст формалистской работы над русской литературной классикой действительно содержит идею присвоения» (62) . Однако же с позиции тех, классическая литература которых была после революции «присвоена», подобно имуществу, земле и другим составляющим материальной культуры, прежде всего, следует «реконструировать» духовную основу трансформируемого и искажаемого в итоге этой трансформации собственного наследия. Думается, что русская и советская культура, хотя и имеют некоторые общие моменты, но их доминанты, архетипы все-таки глубоко различны.
Любопытно, что в работах многих как зарубежных, так теперь и постсоветских отечественных славистов совершенно не скрывается симпатия к ранней советской культуре («Культуре 1»), которая по всем параметрам декларировала оппозиционность русской и, прежде всего, православной русской традиции. Соответственно, не скрывается и глубинная, а отнюдь не конъюнктурная антипатия именно к этой традиции. Можно сказать, цитируемые мною русисты наследуют в этом отношении деятелям культуры Советской России первых 10-15 послереволюционных лет. Как показывает на материале советского периода В. Паперный, — борьбу с традицией «можно рассматривать в одном ряду с другими ее антихристианскими акциями…» (63).
Исходя из художественной практики «левых» движений, ОПОЯЗ попытался теоретически обосновать отказ от самого понятия «традиция» в изучении литературы. Как утверждал в своей программной статье «О литературной эволюции» Тынянов, «основное понятие старой истории литературы — “традиция” (характерны кавычки, подчеркивающие «чуждость» этого «понятия» самому автору. — И.Е.) оказывается неправомерной абстракцией». Для Тынянова «говорить о преемственности приходится только при явлениях школы, эпигонства, но не при явлениях литературной эволюции, принцип которой — борьба и смена» (64).
Французский литературовед Антуан Компаньон в своей книге «Демон теории», определяя основной формалистский термин «остранение» именно как «отклонение от традиции», справедливо [31] указывает, что основой развития литературы для формалистов «становится уже не преемственность (традиция), а прерывность (остранение)», такая литературная история, которая «обращает преимущественное внимание на динамику разрыва, в соответствии с модернистской и авангардистской эстетикой тех произведений, которыми вдохновлялись формалисты» (65). В этом случае центральными моментами любого развития провозглашаются, во-первых, пародирование сложившихся норм; а во-вторых, выдвижение маргинальных явлений в центр литературы. Прерывность при таком подходе всегда намного важнее преемственности, а в итоге, поскольку динамика искусства понимается именно как разрыв с традицией, действительной нормой провозглашается именно отклонение (остранение) от нее. Отклонение, понимаемое отныне не только как «новаторство», но и как своего рода эстетическая «норма», диктует негативное отношение к любой «стабильности», помнящей и уважающей свое собственное культурное прошлое.
Как формулирует М.О. Чудакова, «одним из несомненных, наиболее очевидных следствий работы Тынянова и его единомышленников стала дискредитация неопределенного понятия “традиция”, которое после их критической оценки повисло в воздухе… Взамен ей явилась “цитата” (реминисценция) и “литературный подтекст”» (66). В предлагаемой «замене» можно усмотреть парадоксальный возврат к законнической «букве», «слову» только как к «материалу» литературы и решительный отказ от того «Слова», с которого начинается Евангелие от Иоанна (67). Совершенно ясно, что онтологически понятое «Слово» лишь «материалом» литературы быть никак не может. Тыняновское словосочетание «борьба и смена», как давно уже замечено, характеризует скорее «революцию», нежели «эволюцию» (не случайно ведущие формалисты — Тынянов, Шкловский, Эйхенбаум — в шутку называли себя «ревтройкой»: нельзя не признать, что это была плохая шутка в период массовых расстрелов). История литературы при этом сводится, прежде всего, к борьбе тех или иных направлений; а зачастую, по точному замечанию М.М. Бахтина, «к газетно-журнальной шумихе, не оказывавшей существенного влияния на большую, подлинную литературу эпохи» (68). Но как раз [32] «шумиха», неотделимая от «борьбы» была интереснее всего ОПОЯЗу: без «борьбы» они не мыслили никакого развития. Линия же развития литературы понимается как периодический выход на авансцену маргинальных сил (не сохранение культурной непрерывности, а скачкообразность, или, по В.Б. Шкловскому, «ход конем»). Правда, эти силы представляются в опоязовских исследованиях отнюдь не «маргинальными», а авангардными или элитарными: так позиционирует себя и ОПОЯЗ. Такого рода представления о художественном творчестве как о перманентных «культурных взрывах» неразрывно связаны с революционной практикой и действительно внеположны христианской традиции в искусстве.
С этой точки зрения понятно и негативное отношение к константам национальных, религиозных, культурных традиций как будто как заведомо эпигонским, а вдобавок, как бы сейчас сказали, «авторитарным» (то есть авторитетным) и уже потому якобы «нетворческим».
Речь идет о сциентистском левом мифе, который при этом позиционирует себя отнюдь не в качестве мифа, а в качестве науки, причем «строгой», «настоящей» науки. В действительности же, используя терминологию А.Ф. Лосева, мы имеем дело с «относительной мифологией» ОПОЯЗа, которая состоит именно в том, что свои построения представители этого направления пытаются «подать» как последовательно научные, агрессивно отвергая иные установки, не укладывающиеся в подобную мифологию.
Однако сама же теория и практика «левых» течений свидетельствует о невозможности абсолютного отказа от той или иной преемственности (культурной передачи). Так, после радикального разрыва с «чужим» культурным прошлым – в нашем случае это, прежде всего, православная культурная традиция, авторы, создающую «свою» художественную культуру, как правило, стремятся обосновать свою «линию» опорой на авторитет предшественников. Такой «опорой» для ОПОЯЗа – не вполне основательно (69) — стал «Арзамас». Поэтому за критикой «традиции» так часто скрывается неприятие «чужого» в этой традиции (зачастую этим «чужим» является как раз христианская корневая система европейской культуры) и неявная претензия [33] на «присвоение» и адаптацию того или иного близкого своим интенциям ее сегмента (будь то революционно-демократическая линия в русском «освободительном» движении или же становление «беспредметности» в мировом искусстве). В целом, это тенденция интерпретировать маргинальные по отношению к магистральному вектору традиции культурные явления как подлинно новаторские и эпохальные, — и напротив, то, что питается корнями традиции, вытеснять на периферию культуры.
Показательно, что современные апологеты ОПОЯЗа в пределах своего «левого мифа» так специфически выстраивают послереволюционную историю литературоведения, что именно и только формальная школа якобы являлась оппозиционной по отношению к утвердившемуся в Советской России режиму. Тот же Кертис пытается даже доказать тезис о некоем научном плюрализме ОПОЯЗа, который, очевидно, сказывался в безудержной саморекламе, когда опоязовцы, в основном, цитировали и пропагандировали сами себя именно как новую ультрареволюционную элиту, постоянно аппелировавшую к власти и указывающую на недостаточную революционность своих научных оппонентов. В. Эрлих, в целом с симпатией описывающий ОПОЯЗ, тем не менее, отмечает специфическую шумливость формалистов, специфическую беспощадность к своим литературным противникам и безудержное самовосхваление (70).
Не буду приводить общеизвестные биографические факты. Достаточно напомнить, что местом собраний отвергающих «полицейскую» Россию опоязовцев была квартира активного деятеля этого общества и одновременно платного агента ЧК Осипа Брика. Любопытно, что при теснейшем союзе с властью деятели ОПОЯЗа не уставали иронизировать над «верноподданными» настроениями позднего Пушкина, уже не говоря о выстроенной ими мифологической генеалогии: «Арзамас»-ОПОЯЗ. Однако с определенной точки зрения, никакого логического противоречия здесь не было: в пушкинскую эпоху «власть» мыслилась ими как «чужая», а в первое революционное десятилетие «власть» понималась уже как вполне «своя». Однако, когда та же «своя» власть, пытаясь удержаться, вынуждена была восстановить некоторые черты прежней «чужой» России, опоязовцы тут же с негодованием вспоминали прежнее – абсолютно неприемлемое для них — «полицейское государство».
В.Е. Хализев в одном из докладов на конференциях по Постсимволизму напомнил историю расхождений Жирмунского [34] и Эйхенбаума: Жирмунский поражен «концом России», Эйхенбаум тревожится за возможную гибель революции (71). Тот же Эйхенбаум пишет Жирмунскому: «…пугает меня в тебе и вызывает иногда раздражение… что в тебе нет фанатизма» (72).
Характерным примером подобной ОПОЯЗу работы с изучаемыми текстами является разбор близкого формалистам Л. Выготским бунинского рассказа «Легкое дыхание». Если верить исследователю, «в самой фабуле этого рассказа нет решительно ни одной светлой черты.., перед нами просто ничем не замечательная, ничтожная и не имеющая смысла жизнь провинциальной гимназистки, жизнь, которая явно восходит на гнилых корнях» (73). Таково, по Выготскому, ничтожное «содержание» этого рассказа. И тут же исследователь открывает «закон уничтожения формой содержания» /151/, согласно которому «форма воюет с содержанием, борется с ним» /155/. Думается, в этой емкой формуле открывается специфическое освоение советскими исследователями русской классики — особенно теми, которые по духу и по своим предпочтениям близки левацким направлениям с их нескрываемым «революционизмом» (позднее, когда русское наследство было уже вполне «присвоено», резкость формулировок смягчилась).
Может быть, в этой вполне фрейдистской проговорке сказалось и «оправдание» собственного революционного активизма по отношению к гонимой и истребляемой русской традиции как таковой. Выготский, скорее, характеризует собственный подход к изучению русской литературы, но приписывает его автору произведения. Бунинский рассказ направлен якобы «не на то, чтобы вскрыть свойства, заложенные в самом материале, раскрыть жизнь русской гимназистки до конца во всей ее типичности и глубине, проанализировать и проглядеть события в их настоящей сущности, а как раз в обратную сторону: к тому, чтобы преодолеть эти свойства, к тому.., чтобы житейскую муть заставить звенеть и звенеть…» /156/.
Вряд ли «вытесненный» из России Бунин согласился бы с тем, что он описывает «житейскую муть», что он анализирует [35] не события в их собственной сущности, а лишь преодолевает эту сущность или же, используя другое излюбленное опоязовцами понятие, деформирует эту сущность, как сюжет, согласно теории ОПОЯЗа, «деформирует» фабулу. Но сам этот подход, начиная с резкого противопоставления реальности и произведения, завершая самоупоением от «преодоления» косной сущности и чаемой «деформации» этой сущности, вполне адекватно передает логику переосмысления и «присвоения» русской классики.
Питательную среду подобных деформаторов сам Бунин выразительно описал в «Жизни Арсеньева»: они «жили, в общем, очень обособленно от прочих русских людей, даже как бы и за людей не считая всяких практических деятелей, купцов, земледельцев, врачей и педагогов (чуждых политике), чиновников, духовных, военных и особенно полицейских и жандармов». Эти деформаторы «имели всё своё»: «свои дела, свои интересы, свои события, своих знаменитостей, свою нравственность, свои… обычаи и свое собственное отношение к России: отрицание ее прошлого и настоящего…»; «люди — это только мы да всякие “униженные и оскорбленные”; все злое — направо, все доброе — налево».
Под властью деформаторов, как известно, педантично истреблялась вся русская традиция как таковая: историческая, литературная и культурная. Победители устраивали «свои дела», как заметил Бунин, и насаждали «своих знаменитостей». Но так было лишь на первом этапе, приблизительно первые двадцать лет после большевицкого переворота.
На втором же этапе происходил процесс, который можно обозначить как «вторичную сакрализацию», когда определенные сегменты русской культуры были присвоены и легитимированы «племенем пушкиноведов», если вспомнить известное выражение Мандельштама, однако это присвоение осуществлялось посредством выхолащивания собственного смысла переформатируемой культуры. При этом происходила выборочная адаптация русского наследства с точки зрения советской системы ценностей. Например, после пятнадцатилетнего погрома русской культуры было разрешено преподавать историю и литературу, однако хорошо известно в каком контексте подавались эти дисциплины (74). Из отечественной культуры были насильственно изъяты и подвергались постоянной дискредитации ее основополагающие духовные ориентиры, укореняющую Россию в «большом времени» православной культуры. [36]
Таким образом, развитие гуманитарной мысли в нашей стране после большевицкой революции было насильственно прервано вследствие организационного подавления «идеалистического» инакомыслия. Восторжествовавший марксизм, одним из вариантов применения которого к литературе стала советская ее интерпретация, является лишь частной разновидностью материалистического подхода и материалистического объяснения духовной сферы человеческой деятельности. Религиозно-философское направление, чрезвычайно ярко себя проявившее в конце ХIX — начале XX вв., надолго оказалось практически невостребованным в отечественных гуманитарных дисциплинах, включая литературоведение, — вплоть до конца 80-х годов. В результате некоторые важнейшие проблемы, поставленные русскими писателями, либо сознательно затушевывались, либо сознательно же мистифицировались.
С этой точки зрения и «формальный метод» в литературоведении — при всех его несомненных научных достижениях — являлся лишь наиболее радикальным, крайне левым крылом того же марксистского материалистического подхода. Бесспорные академические успехи «формального метода» в «большом времени» отечественной культуры неотделимы от авангардного переформатирования не только прежних представлений о русской классике, но и насильственной трансформации самих основ человеческой жизни, опирающиеся на карательную практику тоталитарного государства, а потому и составляют своего рода симбиоз с раннебольшевицкими воззрениями «демиургов» Революции. Далеко не случайно определяющее влияние формализма именно в первое — столь же радикальное — десятилетие советской власти, как и последующее постепенное «затухание» этого радикализма в недрах откристаллизовавшейся к тому времени советской гуманитарной науки.
«Борьба» социологического и формалистического крыла в советском литературоведении — это «спор между своими». Не случайно работы «чужих» А. Ф. Лосева и М. М. Бахтина в различной степени, но наследовавших христианской религиозной традиции в гуманитарной сфере, не имели практически никакого значительного резонанса — помимо карательных оргвыводов.
Одной из особенностей гуманитарных наук является зависимость результата описания предмета от позиции исследователя по отношению к этому предмету. Культурный разрыв между исторической Россией и советским государством привел к тому, что зачастую базовые ценности тех, кто писал о русской [37] классической литературе в советское время, не просто разительно отличались от системы ценностей самой этой литературы, но в ряде случаев можно констатировать их полную противоположность. Подобное радикальное расхождение аксиологических установок исследователей и предмета их изучения приводило к явному искажению истории русской литературы в целом и к превратной интерпретации ее вершинных произведений.
Даже те, кто вполне трезво понимали губительность столь кардинальной дискретности в сфере культуры, не могли быть вполне свободны в своем научном творчестве. Так М.М. Бахтин, согласно воспоминаниям С.Г. Бочарова, был глубоко убежден в том, что в книге о Достоевском «оторвал форму от главного… (выделено мной. — И.Е.). Прямо не мог говорить о главных вопросах… Философских, о том, чем мучился Достоевский всю жизнь — существованием Божиим. Мне ведь приходилось все время вилять — туда и обратно. Приходилось за руку себя держать. Даже Церковь оговаривал» (75). Поэтому изучая созданную ученым особую, отличающуюся от формалистской, поэтику невозможно уже ни игнорировать этого вынужденного умолчания, ни — тем более — пытаться, подобно Бочарову, записавшему монолог Бахтина, превращать недостаток бахтинской работы, написанной «под <…> несвободным небом» (76) (невозможность высказаться «о главных (!) вопросах»), в ее достоинство.
В условиях советской несвободы Бахтин хотя и особо подчеркнул, что «впервые основную структурную особенность художественного мира Достоевского нащупал Вячеслав Иванов» (77), однако не смог воспользоваться ивановским определением полифонического мышления Достоевского как мышления соборного. Поэтому центральная категория эстетических построений Вяч. Иванова — соборность — на долгие десятилетия осталась вне внимания достоеведов. Да и радикально противопоставление «народного» и «официального», весьма жестко проводимое Бахтиным в его книги о Рабле, слишком уж созвучно положению о двух культурах…
В итоге, несмотря на корректировку горьковского радикализма, ленинская доктрина, согласно которой единая национальная культура отсутствует, но внутри ее всегда наличествуют «прогрессивная» и «реакционная линии», неизбежно приводила [38] в конкретных исследованиях советских литературоведов к тому, что именно «обличительная» линия совершенно закономерно составляла «ядро» и термина «критический реализм», и, в целом, являлась наиболее «ценной» частью русского классического наследия. Так, в статье “Вопросы построения истории русской литературы” Д. Д. Благой вполне откровенно формулирует: “Историк литературы не должен быть в плену и на поводу у фактов… История литературы должна в основном строиться… как история прогрессивной литературы, складывающейся в борьбе с отжившим, упирающимся, реакционным” (78).
В редакционной статье “Сорок лет советской филологической науки” подчеркивается: “В свете ленинского учения о двух культурах наше литературоведение уделяло преимущественное внимание тем наиболее прогрессивным литературным направлениям и писателям, которые недооценивались или искажались буржуазным литературоведением… <…> Новое освещение получила и русская литература XIX века. Подход к ней с точки зрения русской революции и трех этапов русского освободительного движения обусловил особенное внимание к революционным направлениям в русской литературе…” (79).
Как уже выразился (уже в 1967 г. – к очередному юбилею большевицкого переворота ) рассуждающий о “принципах построения общего курса русской литературы XIX века” В. И. Кулешов, “победившая революция бросала ретроспективный свет на все предшествующее освободительное движение в России” (80). При таком “ретроспективном свете” произошла любопытная трансформация истории русской литературы, в которой можно выделить три момента:
1) эта литература понималась преимущественно как литература социально обличительная;
2) для облегчения подобной “ретроспективной” переоценки в центре внимания литературоведческой науки оказались те русские авторы, либо те произведения, которые трактовались как “прогрессивные”;
3) пропорция между собственно писателями и литературными критиками (журналистами) была решительно смещена в сторону последних, причем “революционные демократы”, т.е. критики и публицисты совершенно определенного (одно из нескольких [39] существующих) идеологических направлений XIX века квалифицировались как и своего рода «историки» и – даже — теоретики литературы.
Если первый и второй моменты совершенно очевидны (достаточно проанализировать, например, состав четырехтомного библиографического указателя “Советское литературоведение и критика. 1917-1967 гг.”, вышедшего в 1989 году, а также ознакомиться с периодически возникавшими и инициированными свыше гневными “протестами научной общественности” против “теории единого потока” в русской литературе, то есть весьма робкими и непоследовательными попытками обойти жесткость классовой схемы “освободительных этапов”, а также ленинского учения о “двух культурах”), то на кардинальном переосмыслении соотношения “демократической” критики и собственно художественной литературы интересно остановиться более подробно.
Показательно, что в восстановленном десятом томе “Литературной энциклопедии” центральная статья “Русская литература” начинается не с собственно художественной литературы, а с характеристики деятельности “прогрессивных” критиков: “Линия — Белинский, Чернышевский, Добролюбов… <…> …это наиболее высокий подъем литературной науки” (81). Вероятно, “ретроспективно” иерархия критиков и писателей XIX века рассматривалась как некое подобие утвердившейся в СССР иерархии идеологов и литературных работников-практиков (“советских писателей”). Во всяком случае не только на первом (раннебольшевицком) этапе, но и на втором (собственно сталинском) мы наблюдаем ту же самую «идеологическую» линию. Так, в десятитомной “Истории русской литературы” (1941-1956) огромное место занимает именно рассмотрение литературной критики.
Однако и эта совершенно невероятная и резко противоречащая исторической реальности литературного процесса в России пропорция позже провозглашается недостаточно радикальной. Так, авторы четырехтомной “Истории русской литературы” (уже в 1980-1983 гг.!) полагают, будто “Обычно… выдающаяся организующая и направляющая роль классической критики (имеется в виду, конечно, критика революционно-демократическая. — И. Е.) представлена в крайне ослабленном виде” (82)! Особенно замечательно здесь выделенное нами речевое клише, относимое обычно к чисто партийной советской деятельности. [40] Употребленное же по отношению к демократической критике XIX века, оно характеризует представление о “прогрессивной” критике как “авангарде” литературного процесса, организующей и направляющей русскую литературу едва ли не в такой же мере, как партия направляет литературу советскую.
Объяснение этой достаточно странной ситуации видится именно в том, что сам литературоведческий дискурс строится не вокруг описания непосредственного предмета своего изучения, а имеет совершенно иные задачи. В редакционной статье к первому тому “Литературного наследства” в 1931 году история русской литературы определяется как такого рода локальный “участок классовой борьбы”, который должен быть обязательно захвачен: “Победоносно наступая по всему фронту, ленинское литературоведение добьет классового врага и на этом участке” (83). В 1954 году как о совершенно очевидной для советского исследователя установке в “Известиях АН СССР” утверждается, что “историк литературы XIX века, конечно, обязан всячески подчеркивать громадное направляющее воздействие, которое оказывала революционно-демократическая критика, начиная с Белинского, на развитие самого литературного процесса” (84).
Очевидно, мы имеем дело не только с ограниченной литературоведческим материалом локальной квазинаучной логикой, которая опирается на область мифологических верований Белинского, Чернышевского и Добролюбова. По-видимому, за современным развертыванием этой же «относительной» мифологии, весьма созвучной советским объяснительным моделям русской литературы, стоят более глобальные, по преимуществу атеистически ориентированные прогрессистские представления о путях «развития» как общества, так и литературы. Эти представления, приводящие к стремлению унифицировать и, тем самым, как бы подчинить единой схеме всю историю человечества (марксистские, глобалистские либо какие-то иные), строго говоря, недоказуемы, однако именно поэтому и являются очень существенной частью интеллектуальной мифологии — с ее явной склонностью к «левизне».
Наследующие этой мифологии постсоветские исследователи собственный миф пытаются позиционировать в качестве основания гуманитарной науки, считая себя при этом представителями науки как таковой. Однако «относительная» мифология [41] должна знать свое место. В понимании русской литературы это место весьма скромное, лишь по известным историческим и общественным причинам (и по академической инерции) подобный подход к нашей словесности, к сожалению, все еще доминирует в отечественной филологии и истории. Следует при этом учитывать и то, что “дискретируемая” национальная культура – для последующей трансформации и адаптации “под себя” отдельных ее сегментов – все-таки (до момента полного ее уничтожения или замещения) обладает многовековым корневым потенциалом, а потому способна к “регенерации” собственной культурной памяти. Будущее все еще не предрешено, поэтому каждому предоставляется выбор: способствовать ли “празднику возрождения” (М.М. Бахтин) подлинных смыслов этой культуры, либо становиться соучастником процесса ее дискретирования. [42]
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Пришвин М.М. Собр. соч.: В 8 т. М., 1986. Т. 8. С. 679.
2. Сорокин П.А. Cоциальная и культурная динамика: Исследование изменений в больших системах искусства, истины, этики, права и общественных отношений. СПб., 2000.
3. Сорокин П.А. Кризис нашего времени // Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 467-469.
4. Сорокин П.А. Кризис нашего времени. С. 470.
5. Лосев А.Ф. Диалектика мифа. М., 2001. С. 255.
6. Гальцева Р.А. Христианство перед лицом современной цивилизации // Новая Европа. Милан-Москва, 1994. Вып. 5. С. 3, 9.
7. Ильин И.А. Наши задачи // Ильин И.А. Собр. соч. В 10 т. М.: Русская книга, 1993. Т. 2. Кн. 1. С. 64-66.
8. Лосев А.Ф. Диалектика мифа. С. 441-450.
9. Солженицын А.И. Размышления над февральской революцией // Солженицын А.И. Публицистика. В 3 т. Ярославль, 1995. Т. 1. С. 495.
10. См.: Февр Л. Бои за историю. М., 1991.
11. Гуревич А.Я. Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981. С. 336.
12. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1990. С. 7.
13. Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 15 т. СПб., Т. 14. 1995. С. 459.
14. Речь Шмелева цитируется по ее тексту в следующем издании: Возрождение. 1957. № 62. С. 6-14. Курсив, кроме специально оговоренных случаев, мой.
15. Адамович Г. Одиночество и свобода. Нью-Йорк, 1955. С. 74.
16. Шмелев И.С. Собр. соч.: В 5 т. М., 1999. Т. 7 (доп.). С. 543.
17. Б. Зайцев как само собой разумеющееся горестно отмечал и в 1951 году: «Даже имени Россия больше нет» (Зайцев Б. В пути. Париж, 1951. С. 208). Слово «Россия» было выделено при этом Б. Зайцевым курсивом…
18. Гинзбург Л. Записи 20-30 гг. // Новый мир. 1992. № 6. С. 154.
19. Паперный Вл. Культура Два. М., 1996. С. 83.
20. Солженицын А.И. Двести лет вместе. М., 2002. Т. 2. С. 274.
21. Первый Всесоюзный Съезд советских писателей: Стенографический отчет. М., 1934. С. 154.
22. См.: Есаулов И.А. Пасхальность русской словесности. М., 2004.
23. Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. Л., 1980. Т. 21. С. 37-38.
24. Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. Л., 1984. Т. 26. С. 150-151.
25. Ильин И.А. Собр. соч. : Переписка двух Иванов (1935-1946). М., 2000. С. 387.
26. Успенский Б.А. Споры о языке в начале XIX в. как факт русской культуры // Успенский Б.А. Избранные труды. М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. Т. 2. С. 423-424, 504.
27. Арзамас и арзамасские протоколы. Л., 1933. С. 246.
28. Там же. С. 209.
29. Там же. С. 239.
30. Паперный Вл. Культура Два. М., 1996. С. 221-222.
31. Струве П. Б. Интеллигенция и революция // Вехи. Из глубины. М., 1991. С. 156.
32. Гершензон М. О. Творческое самосознание // Вехи. Из глубины. М., 1991. С. 84-85.
33. Там же. С. 85.
34. Булгаков С. Н. Героизм и подвижничество (Из размышлений о религиозной природе русской интеллигенции) // Вехи. Из глубины. М., 1991. С. 61.
35. Там же. С. 66.
36. Там же.
37. Там же. С. 67.
38. Там же. С. 68.
39. См.: Там же. С. 167-199, 150-166, 68.
40. Булгаков С. Н. Героизм и подвижничество. С. 72. Ср. воспоминание Ф. М. Достоевского о В. Г. Белинском в письме к Н. Н. Страхову: “Этот человек ругал мне Христа по-матерну” (Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 29. Кн. 1. Л., 1986. С. 215), корреспондирующее с резким высказыванием писателя в письме к тому же адресату: “Смрадная букашка Белинский… был немощен и бессилен талантишком, а потому и проклял Россию и принес ей сознательно столько вреда” (Там же. С. 208). Тесная связь между двумя репликами писателя совершенно очевидна: как известно, для Достоевского (как и позднее для С. Н. Булгакова) было несомненно, что идеал русского народа — Христос.
41. См.: Солженицын А. И. Образованщина // Из-под глыб. Париж, 1974. С. 217-259.
42. “Все 20-е годы… во всех областях культуры последовательно вытравлялась вся русская традиция и русская история, как бывает разве только при оккупации…” (Солженицын А. И. Раскаяние и самоограничение // Из-под глыб. Париж, 1974. С. 135).
43. Горький М. История русской литературы. М., 1939. С. 25.
44. Там же. С. 5.
45. Горький М. Собрание сочинений: В 30 т. Т. 23. М., 1953. С. 352-355.
46. Первый съезд советских писателей. Стенографический отчет. М., 1934. С. 17.
47. Ср.: “…Миф о русской действительности как средоточии косности, невежества, рабской покорности фатально и неотвратимо соприкасался с программой тотального разрушения отечественного бытия” (Хализев В. Е. Спор о русской классике в начале ХХ века // Русская словесность. 1995. № 2. С. 20).
48. Первый съезд советских писателей. Стенографический отчет. С. 11.
49. В. В. Розанов в 1912 году со свойственной ему парадоксальностью писал о левой опричнине: “…встала левая “опричнина”, завладевшая всею Россией”. Поэтому “в России “быть в оппозиции” — значит любить и уважать Государя… “быть бунтовщиком” в России — значит пойти и отстоять обедню…” (Розанов В. В. Уединенное. М., 1990. С. 290).
50. Первый съезд советских писателей. Стенографический отчет. С. 17.
51. Проведенная в 1918 году реформа русской орфографии была воспринята именно как насильственная секуляризация правописания, причем с ярко выраженным антиправославным подтекстом. Ср., например, авторитетное свидетельство Д. С. Лихачева: «<...> новая орфография посягнула на самое православное в алфавите… «Ять» в ее древнейшем начертании символизирует Церковь. Об этом красноречиво говорит крест наверху… Через «ять» пишутся исконно–русские слова и по большей части православно–русские: вера, вечность, венец… Уничтожив «фиту», они (имя которым легион) хотят предать забвению ту ненавистную связь, которая существовала когда–то между Византией и Русью, Россией. Уничтожив «ижицу», они пытались достигнуть еще более ужасных целей: отторгнуть Россию от небесной благодати (вспомним те слова, которые пишутся через «ижицу»)» (Лихачев Д. С. Статьи разных лет. С. 13–14). Для цитированного нами исследователя было совершенно ясно, что «введение новой орфографии равносильно изъятию церковных ценностей» (Там же. С. 13). Нелишне напомнить, что именно за свой доклад «О старой орфографии», сделанный в 1928 году, некоторые положения которого мы процитировали выше, Д. С. Лихачев получил тюремное заключение.
52. См. например: Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: Канонические тексты. Петрозаводск, 1995-.
53. Эйхенбаум Б. О прозе. О поэзии. Л., 1986. С. 58.
54. Цит. по: Кертис Дж. Борис Эйзенбаум: его семья, страна и русская литература. СПб., 2004. С. 83.
55. Эйхенбаум Б. Мой временник. Л., 1929. С. 36.
56. Цит. по: Кертис Дж. Указ. соч. С. 87.
57. Там же.
58. Так, В.М. Живов с полным основанием замечает об одном из ведущих советских литературоведов, несомненно входившим в круг тех, кого Эйхенбаум называл «нашим поколением»: «Гуковский принадлежал к числу тех, кто приобрел свой элитарный социальный статус благодаря большевистскому режиму… В 1920-е годы эти люди с большей или меньшей степени отождествляли себя с большевистским проектом (примером такого отождествления может служить ЛЕФ, с которым сотрудничали многие учителя Гуковского). Такое отождествление оставляло лишь ограниченное пространство для индивидуального противостояния зигзагам и метаморфозам тоталитаризма – вне зависимости от того, насколько эти зигзаги соответствовали этическим понятиям и личным пристрастиям отдельного человека» (Живов В.М. XVIII век в работах Г.А. Гуковского, не загубленных советским хроносом // Гуковский Г.А. Ранние работы по истории русской поэзии XVIII века. М., 2001. С. 28-29.
59. Флоренский П.А., священник. Сочинения: В 4 т. Т 4. Письма с Дальнего Востока и Соловков / Сост. и общ. ред. игумена Андроника (А.С. Трубачева), П.В. Флоренского, М.С. Трубачевой. М., 1998. С. 64.
60. Тынянов Ю.Н. Пушкин и его современники. М., 1969. С. 56.
61. Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. М., 1966. Т. 10. С. 9.
62. Кертис Дж. Указ. соч. С. 72.
63. Паперный Вл. Указ. соч. С. 221.
64. Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 272, 258.
65. Компаньон А. Демон теории. М., 2001. С. 242-243.
66. Чудакова М.О. К понятию генезиса // Revue des études slaves. Fascicule 3. Paris, 1983. P. 410-411.
67. См. подробнее: Есаулов И.А. Русская классика: новое понимание. СПб., 2017.
68. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 330.
69. См. подробнее: Есаулов И.А. «Был у вас Арзамас / Был у нас ОПОЯЗ»: о некоторых аспектах советского освоения русской классики // Его же. Постсоветские мифологии: структуры повседневности. М., 2015. С. 415-427; Его же. Преемственность или дискретность: «Арзамас»/ОПОЯЗ («Ход конем» или регенерация преемственности» // Литературное общество «Арзамас»: история и современность. Арзамас, Нижний Новгород, 2015. С. 102-113.
70. См.: Эрлих В. Русский формализм: история и теория. СПб., 1996.
71. См.: Хализев В.Е. Русская литература начала ХХ века в трудах В.М. Жирмунского 1914-1921 гг. // Постсимволизм как явление культуры. М., 1998. Вып. 2. С. 50-55. См. также работу того же автора в кн.: Жирмунский В.М. Преодолевшие символизм. М., 1998.
72. Цит. по: Хализев В.Е. Указ. соч. С. 53.
73. Выготский Л. С. Психология искусства. М., 1987. С. 147. Далее страницы этого издания приводятся в скобках.
74. См. разделы «Власть» и «Практика» на портале «Трансформации русской классики»: http://transformations.russian-literature.com
75. Бочаров С. Г. Об одном разговоре и вокруг него // Новое литературное обозрение. 1993. № 2. С. 71–72.
76. Там же. С. 71.
77. Бахтин М. М. Проблемы творчества Достоевского. Киев, 1994. С. 212.
78. Благой Д. Д. Вопросы построения истории русской литературы // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. 1954. Т. 13. Вып. 5. С. 411.
79. Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. 1957. Т. 16. Вып. 5. С. 399, 401.
80. Советское литературоведение за пятьдесят лет. М., 1967. С. 395.
81. Литературная энциклопедия. Т. 10. München, 1991. Стб. 91.
82. История русской литературы. Т. 1. Л., 1980. С. 8.
83. Литературное наследство. Т. 1. 1931. С. 5.
84. Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. 1954. Т. 13. Вып. 5. С. 404.
ОПУБЛИКОВАНО: Русская классика: pro et contra. Железный век. Антология. СПб.: Издательство Русской христианской гуманитарной академии, 2017. С. 9-42. [Вступительная статья к тому]. Издание осуществлено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 15-33-11007.

3 комментария
Влияние Ницше на «передовую русскую интеллигенцию» в конце 19-начале 20 веков интересно было бы рассмотреть. Белинский и марксизм в этом смысле даже вторичны. Эпигонство вплоть до подражания во внешности, как у Горького. А ведь предупреждал Фёдор Михайлович: «Смирись, гордый человек!»
Очень полно и исчерпывающе — замечательная статья!! Неизменно со всеми моими студентами, включая и тех, кто изучает русский как высокого уровня иностранный, читаем и обсуждаем подробно, в деталях «Капитанскую дочку». В этом произведении, действительно, все сказано о самом главном в нашей культуре — о том, из чего, на самом деле, все мы, как нация, вышли…
Прекрасная статья! Огромная Вам благодарность, Иван Андреевич! Ваш В.В. Громковский
Последние записи
Последние комментарии
Архивы