«ЗАКОНЫ СЧАСТЬЯ» И МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА В «СНЕ СМЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА» Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО: ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОЛОГИЯ
Зададимся несколько «наивным» и даже «некорректным» в ученой среде вопросом: чем, собственно, интересен до сих пор читателям Достоевский? Очевидно тем, что он писатель. Гениальный писатель, который создал свой собственный космос, свою собственную, завораживающую читателя, вселенную. А чем занимаемся мы, филологи? В сущности, тем, что различными способами и путями пытаемся перевести на другой язык, язык филологической науки, то, что написано на языке Достоевского при создании этой вселенной. Иными словами, наша деятельность это своего рода пересказ, парафразирование, перетолкование. В конце концов, вероятно, и в этом случае можем говорить о «переводе, трансформации одной сферы в другую» (Užarević 1999: 121). Поэтому нужно изначально смириться с тем, что при этом парафразе, научном парафразе в данном случае, обязательно будет зазор между художественным творчеством и наукой. Если бы этого зазора не было и была бы возможность перевести, так сказать, без остатка на научно-понятийный язык поэтический космос Достоевского, тогда бы не нужен был и сам Достоевский, не нужно (а иным читателям и не интересно) было бы его читать: ведь мы его, в таком случае, уже передали, перевели, разъяснили – то, что он создал на языке художественных образов. Именно неизбывное, неуничтожимое никакими — даже самыми тонкими и проницательными интерпретациями – наличие зазора между наукой и творчеством, который мы все чувствуем, свидетельствуют о гениальности художника, а нам не дает утвердиться в нашей профессиональной вере в окончательное торжество научных «законов», объяснительных процедур.
По-видимому, не только гениальность писателя, но и его «широта», если использовать в данном случае известную формулировку одного из его [111] героев, провоцирует на то, что его тексты явились материалом для использования в самых разных сферах знания. Например, современный русский философ (в данном случае, важно, что это не филолог) признает: «… можно смело сказать, что наиболее правдоподобная общая характеристика русской философской традиции ХХ века состоит в том, что она представляет собой серию примечаний к Достоевскому, имея в виду богатство общих идей, которые разбросаны в его сочинениях» (Ванчугов 1994: 354). Однако в данном случае крайне важно при научном описании художественных текстов то размежевание философии и филологии, о котором писал в своих рабочих набросках М.М. Бахтин: благожелательное размежевание, «без драк на меже» (Бахтин 1979: 341). Самое же существенное, что и в данном случае, «перевод одной сферы в другую» в философии и филологии, по-видимому, происходит существенно по-разному.
В качестве иллюстрации рассмотрим «Сон смешного человека», поскольку он представляет собой особый текст, оставивший равнодушным современников писателя*, но позже привлекающий особое внимание, наряду с романами, Достоевского, помимо филологов, и других гуманитариев — историков, теологов, философов и социологов**. И понятно – почему. Им представляется, что в этом тексте, вошедшим в состав «Дневника писателя» (апрельский выпуск 1877 года), имеется в крайней сжатом виде вся история человечества***. Конечно, оспаривать столь ярко выраженный сгущенный «энциклопедизм», присутствующий в этом небольшом тексте, невозможно. И все-таки сосредоточимся в своей работе на другой стороне проблемы.
Что представляет собой – с любой нефилологической установки (с философской или иной) – столь ощутимая разница в построении текстов двух «фантастических» рассказов из «Дневника писателя»: «Кроткой» и «Сна смешного человека»? Только лишь так называемая «форма». Или – с этих же нефилологических позиций – так уж существенен тот факт, что Достоевский, вообще-то затевавший свой «Дневник писателя» как раз для того, чтобы беседовать с публикою от своего собственного лица, напрямую, минуя посредничество «литературных героев» — в том и другом «фантастическом рассказе» обращается именно к посреднику – рассказчику? что перед нами в том и другом [112] случае именно Icherzählung? С нефилологической позиции, излагая «идеи», «тематику», «проблематику», «теодицию» и т.п. крайне существенные для сжатой энциклопедии концепты, тем и другим можно вполне пренебречь.
Тогда как, переходя собственно к филологическому парафразу произведений Достоевского исключительно важно, что в первом фантастическом рассказе его неотъемлемой частью является начальное «От автора» (24, 5)**** , а вот во втором, который мы рассматриваем, никакого «от автора» не существует.
Первая же фраза второго фантастического рассказа «Я смешной человек» (25, 104). Конечно, мгновенно в читательском сознании возникают «Записки из подполья» Достоевского с подобным же (предупреждающим читателя) началом «Я человек больной» (5, 99), но – опять-таки весьма существенно с филологической точки зрения, что в «Записках…» сам текст предваряет авторская ремарка – «И автор записок и самые “Записки”, разумеется, вымышлены. Тем не менее такие лица, как сочинитель таких записок, не только могут, но даже должны существовать в нашем обществе, взяв в соображение те обстоятельства, при которых вообще складывалось наше общество. Я хотел вывести перед лицо публики, повиднее обыкновенного, один из характеров протекшего недавнего времени. Это — один из представителей еще доживающего поколения. В этом отрывке, озаглавленном “Подполье”, это лицо рекомендует самого себя, свой взгляд, и как бы хочет выяснить те причины, по которым оно явилось и должно было явиться в нашей среде. В следующем отрывке придут уже настоящие “записки” этого лица о некоторых событиях его жизни. Федор Достоевский» (5, 99). Во втором фантастическом рассказе ничего подобного нет. С начала и до конца перед нами в чистом, не разбавленном авторскими «предупреждениями», дистиллированном, так сказать, виде как раз Icherzählung.
Что это означает? Все без исключения сентенции, произносимые героем-рассказчиком, этим самым «смешным» человеком, от первой фразы – «Я смешной человек» до последних – «И пойду! И пойду» (25, 119) — принадлежат отнюдь не автору «Дневника», не Достоевскому, излагающему таким вот образом, в такой «форме» свои религиозно-философские (и прочие) «идеи»***** , но исключительно сознанию его героя. Если в «Кроткой» (как и в «Записках из подполья») разными вариантами, но эксплицирована авторская «объясняющая» установка, направляющая читательские рецепции, то в «Сне смешного человека» подобных установок нет. И без того ирреальное, не имеющее сколько-нибудь однозначных трактовок пространство «сна», отношения которого [113] с повседневной реальностью крайне занимало Достоевского, релятивируется еще и значимым отсутствием в данном случае авторских вводных слов или ремарок.
Тотальное доминирования сознания героя-рассказчика (а не автора) в полной мере относится и к рисуемым им фантастическим картинам земного рая и грехопадения. Если мы в полной мере этого не учитываем, мы покидаем область нашего собственно филологического парафраза и входим в какие-то иные сферы, также парафрастические, которые можно назвать парафилософскими и квазибогословскими. Они, эти переложения, могут быть весьма остроумными и неожиданными, но, к сожалению (к сожалению для филологии), скорее, уводят нас от постижения собственного смысла произведения Достоевского, чем углубляют это постижение.
Чем именно занимается не только этот, но и другие герои Достоевского, помимо осмысления ими собственной жизни? Им, как известно, «надобно мысль разрешить» (14, 76). Они, так сказать, решают мировые проблемы, ставят «проклятые вопросы», многие из которых, надо признать, решить окончательно, раз и навсегда, здесь на земле, человеческим разумом невозможно… Чем же занимается тогда автор (если иметь в виду именно и только художественные произведения)? Автор, если вспомнить христианский подтекст бахтинских построений, так относится к своему герою, как Бог к человеку («Ты еси», согласно известной формулировке предшественника Бахтина Вяч. Иванова). Не покушаясь на его христианскую свободу, добавим мы, на его свободу выбора, но любя его как такового, как уникальную личность, как свое создание, сострадая ему и не сводя его к «отражению» каких-то общественных (или любых иных) «закономерностей», то есть не «овнешняя» героя (опять-таки если вспомнить один из наиболее существенных бахтинских терминов).
Философ Л.П. Карсавин в 1921 году опубликовал статью с вызывающим заголовком: «Федор Павлович Карамазов как идеолог любви», в которой подчеркнул: этот – с внешней стороны «грязный сладострастник» в романном мире Достоевского проникает «в самое природу любви <…> видит то, чего не видят другие, улавливает неповторимо-индивидуальное» (Карсавин 1990: 264). Правда, призвав читателя «…шире, чем автор, шире и глубже, чем Зосима, понять непреходящую правду карамазовщины» и именно таким образом «завершить художественное единство романа» (там же: 277) , философ пытается сформулировать «идеологию любви», но не понять то человеческое «я» Федора Павловича, избыток именно его личности, который не вмещается в «карамазовщину». Там, где Карсавин наиболее близко подходит к этому – противоположному овнешнению – отношению к герою, он замечает: «Пожалуй, не так уж трудно простить Федора Павловича, поняв свою вину перед ним. Но не легко полюбить в нем всё – а как понять, не полюбив?» (там же: 276). Действительно, «…понять, не полюбив» невозможно, однако и в этом случае та, загораживающая от философа личность героя идея (в данном случае «карамазовщина»), так остро его интересующая, вмещается в его [114] интерпретации в слово «всё». Тогда как «полюбить/понять» сложнее всего для читателя не Федора Павловича Карамазова как идеолога любви (и, тем более, не непреходящую правду карамазовщины), но самого Федора Павловича. Такой – в сущности, традиционно-христианский подход к человеку (разделение греха и грешника), конечно, хорошо известен Карсавину: «Человека <…> надо любить во грехе, но греховное в нем – нацело отсечь, как злое бытие, победить зло силою смиренной любви» (там же: 276-277). Однако – в духе философии Серебряного века и «нового религиозного сознания» – его этот подход не вполне устраивает, а потому наследующие христианской (православной) традиции герой (старец Зосима) и автор, как Карсавину представляется, «последнего шага <…> сделать не решаются» (там же: 276). Таким последним шагом для него выступает не милующая и прощающая любовь к человеку (герою), но нечто иное: «Любовь Зосимы не оправдывает всего мира, не оправдывает карамазовщины…» (там же: 277). Следует согласиться с нашим философом: этого «последнего шага» в самом деле не сделали и не могли сделать ни старец Зосима, ни Достоевский: потому они, в частности, и репрезентирует «золотой», а не «серебряный» век русской культуры.
Что же происходит, когда вольно или невольно игнорируется чисто филологическая специфика «Сна смешного человека»? Возьмем для иллюстрации известную статью В.Л. Комаровича «Мировая гармония» Достоевского, заслуженно входящую, так сказать, в золотой фонд достоеведения, и находим там – как будто вполне справедливые (но справедливые с философской точки зрения – сентенции). Позволим себе обширную цитату:
«В этом “фантастическом рассказе” <…> есть разительные совпадения с некоторыми местами “Déstinée sociale” Victor’a Considérant. Мысль, развиваемая в этом рассказе Достоевского, — мысль французских утопий: “люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле”, потому что нельзя “верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей”. <…> Консидеран в одной из первых глав своего трактата рисует <…> идеал посредством такого же приема, как и Достоевский: “Создадим воображением, — говорит он, — на какой-нибудь планете (sur un globe quelconque) общество, в котором не существовали бы… причины зла… На этой планете царствовал бы порядок, подобный тому, который сияет в небесах… центральное солнце… изливает жизнь и плодородие, тепло и свет” и т.д. И далее обычными утопическими чертами изображаются счастливые люди этой планеты: они согласно работают “над украшением своей планеты, над развитием и усовершенствованием своей божественной природы”. Достоевский сохранил в своем рассказе не только прием Консидерана (переселение на планету), но и некоторые подробности его изображения обитателей планеты. “Центральное солнце” Консидерана, “изливающее жизнь и плодородие, тепло и свет” породило и жителей на планете Достоевского. “Дети солнца, дети своего солнца” — так называет их Достоевский… Сходство с книгой Консидерана чувствуется и в самом тоне “смешного человека”, который [115] знает истину, но не может в ней убедить других <…> Эти “насмешники”, “они” остаются совершенно скрытыми в рассказе; это какие-то воображаемые противники… Вот таким же своеобразным полемизмом “смешного человека” отмечен и весь трактат Консидрана: “Они, конечно, откажутся следовать за вами на вашу землю… Неверие заставит их сказать… «сон и ложь, бред и сумасшествие». Они вас не будут слушать, они будут смеяться над вашей странной идеей, над вашим «сном честного человека»” (“le rêve d’honnête homme”) <…> “Но ведь знаешь, — продолжает Консидеран, — что было бы так легко, так возможно для людей, если бы они послушали только одно мгновение, изменить плач и стоны народов в крик радости, в возгласы восторженной любви”. “А между тем, это так просто, — говорит «смешной человек» Достоевского, — в один бы день, в один бы час – все бы сразу устроилось!”. И Достоевский отмечает курсивом слова: “в один бы час”; у Консидерана слова “s’ils écoutaient un moment” тоже напечатаны курсивом… Сходство, таким образом, не ограничивается сюжетом; оно распространяется на стиль и достигает степени тождественного перевода» (Комарович 1997: 609-610).
По-видимому, в последнем случае, в отличие от Комаровича, лучше использовали другое слово, ибо речь идет не о буквальном переводе, но о парафразисе: так сказать, «классическом», литературном.
Однако к чему же в итоге приходит Комарович? К тому, что и стареющий Достоевский, несмотря на все его известные оговорки и резкое дистанцирование от его же юношеского «мечтательного бреда» социальных утопий (там же: 584), «не только сохранил в себе гуманический (так! – И.Е.) идеал “земного рая”, но и сознательно отождествлял его с своим юношеским идеалом из французских социальных утопий…» (там же: 610).
Можно как соглашаться, так и полемизировать с интерпретацией Комаровича. Однако главное, как нам представляется, состоит в том, что «Déstinée sociale» Консидерана – это трактат, философское сочинение, где нет автора и героя, а есть только изложение позиции автора, а «Сон смешного человека» Достоевского – это художественное произведение, главное в котором – не «философия», не изложение социальных взглядов, не трактат (в котором «сон» персонажа был бы чисто «техническим способом» передачи авторских идей), а изображение героя (с его собственными, глубоко самостоятельными воззрениями и его собственной картиной мира, что отличает, как мы знаем, именно Достоевского).
В силу же некритического смешения философии и филологии конечный вывод Комаровича нельзя назвать корректным. Всё, что он – весьма справедливо – заметил и описал, Достоевский в своем парафразисе переводит в область этики и поступка героя, но не собственно автора. Тем самым авторские упования Консидерана объективируются, овнешняются, становятся предметом рассмотрения, парафрастической художественной игры, но зато герой, «смешной человек», напротив, выдвигается — самой структурой рассказа — на передний план изображения. [116]
Героя спас вовсе не его фантастический сон, совсем не его сопротивление утопическим «законам счастья», которые «выше счастья» (25, 116), а девочка: «И уж конечно бы застрелился, если б не та девочка», «эта девочка спасла меня, потому что я вопросами отдалил выстрел» (26, 107-108). Крайне важно, что она его «спасла», а он ее грубо оттолкнул, прогнал: «…она вдруг сложила ручки и, всхлипывая, задыхаясь, все бежала сбоку и не покидала меня. Вот тогда-то я топнул на нее и крикнул» (25, 106).
Нельзя не заметить некоторой особой, можно сказать, утрированной восторженности героя: «О, теперь жизни и жизни! <…> восторг, неизмеримый восторг поднимал все существо мое. Да, жизнь, и – проповедь! О проповеди я порешил в ту же минуту и, уж конечно, на всю жизнь! Я иду проповедовать, я хочу прововедовать…» (25, 118). Здесь один тонкий, весьма сложный для интерпретации момент. «Люби других, как себя» — эта «старая истина» (25, 119), как говорит смешной человек, то есть евангельская истина – бесспорно, она важна не только для «смешного человека», но и для самого Достоевского, будучи своего рода категорическим императивом любви. Однако восторженность героя, которая выражается в его утопических мечтательных упованиях («О, я бодр, я свеж, я иду, иду, и хотя бы на тысячу лет» (25, 118)), это сфера именно героя, приписывать их автору некорректно. Имеем в виду, прежде всего, многократно цитируемое различными исследователями (и относимое ими непосредственно к авторской установке, установке самого Достоевского): «А между тем так это просто: в один бы день, в один бы час – всё бы сразу устроилось! <…> Если только все захотят, то сейчас всё устроится» (25, 119).
Если бы так и заканчивался текст Достоевского, тогда бы мы могли – хотя бы отчасти – согласиться с Комаровичем, с его процитированными выше выкладками. Однако текст завершается не безличными всеми («если только все захотят»), а той самой девочкой, которая очень подробно описывалась ранее: «А ту маленькую девочку я отыскал…» (25, 119). Сразу после этого следуют странные – крайне пафосные — слова героя – «И пойду! И пойду!». Куда же – пойду? Пойду «проповедовать»? Но — кому? Всем? Зачем же тогда упоминание о девочке?
По-видимому, если и «проповедовать», то – в авторском эстетическом завершении героя, а не в его собственном кругозоре — не для утопической надежды – что «всё устроится», а для спасения себя самого, спасения его души. Восторженный герой, «смешной человек», очевидно, в том же авторском ракурсе, не о «мире» прежде всего призван думать, а о том, как спасти свою собственную душу (которую он едва-едва не погубил). Во всяком случае, в финале еще нельзя говорить об окончательном спасении, поскольку он, как и многие другие герои Достоевского, человек пути, а не итогового завершения пути. Словами «пойду, пойду» закончился текст рассказа, но отнюдь не путь «смешного человека» (отсюда и формальная незавершенность, относимая к будущему – «пойду, пойду»). Но так уж устроен мир Достоевского, ничего не поделаешь, что в этом мире доминирует представление [117] о соборном спасении, а не только личном. Однако это соборное спасение отнюдь не на пути безлично-коллективном (не там, где все – «если только все захотят»), «смешному человеку» — в авторском его завершении — нужно спасать не этих безличных их, а Ты — ту самую девочку, которая месяц назад спасла его (а тем самым спасти и себя самого). Поэтому после слов «ту маленькую девочку я отыскал» в тексте и стоит многоточие, также предполагающее незавершенность. В мире Достоевского эта девочка (Ты) нуждается — куда более абстрактных «всех» — в его заботе и спасении, ведь – еще до сна героя – на пустынной ночной улице «показался тоже какой-то прохожий» и девочка «видно, бросилась от меня к нему» (25, 106): можно предположить, каким может быть этот «прохожий» и что может быть далее с этой девочкой, которая так доверчиво бросается на пустынными ночными питерских улицах к незнакомцам — то к герою, то к «какому-то прохожему».
Исследователи же, будучи словно бы загипнотизированы сгущенностью философско-утопических размышлений героя, которые передает автор, задаются хотя и важными вопросами (например, отчего в этом идеально-утопическом мире сна «смешного человека» нет Христа? да и вообще Бога), но, тем самым, незаметно для себя переходят из сферы собственно филологической в сферу религиозно-философскую, обсуждая «идеи» (и их генезис), но не изображенных людей. Итак, в персоналистическом мире Достоевского главное отнюдь не описание самого «сна» (и «райского» миропорядка), даже и не та «истина», которую герой «узнал в прошлом ноябре, и именно третьего ноября» (25, 105), не призыв к «проповеди» и не сама проповедь (в конце концов, проповедь монологична, а не диалогична, и уже потому не может быть «главной» для Достоевского). Главное – это «та девочка», которая помешала «смешному человеку» застрелиться. Удержали от самоубийства героя отнюдь не рациональные «философские» доводы его «я» («… ведь если я убью себя, например, через два часа, то что мне девочка и какое мне тогда дело и до стыда и до всего на свете. Я обращаюсь в нуль, в нуль абсолютный» (25, 108)), но именно жалость и стыд перед «Ты». Именно поэтому от «их», «истины» и «всех» в самом финале «смешной человек» переходит к «Ты». Это движение от «Я» (а также «философских» рассуждений о счастье, зле, добре и т.п., на которые обращалось преимущественно исследовательское внимание – в намерении непременно вычленить «философскую систему» или даже «богословие» писателя) к «Ты», близкое как «Запискам из подполья»****** , так и «Кроткой» (Есаулов 2018), и результирует как путь [118] рассказчика («И пойду! И пойду!»), так и в целом символизирует одну из главных особенностей поэтики Достоевского.
Нелишне напомнить, что именно Комаровичу (а не Бахтину) принадлежит приоритет в употреблении термина полифония, применительно к Достоевскому — в другой его работе середины двадцатых годов прошлого века (Комарович 1924). Как же представления о соотношении «голосов» героев (и мерцающих за ними той или иной «идеологии», «философской позиции», «мировоззрения») могут быть рассмотрены в аспекте нашей темы?
Со времен появления рецензии наркома А.В. Луначарского на первое издание книги Бахтина о Достоевском (Луначарский 1929), не утихает спор о соотношении иерархии и полифонии. Это может быть понято как столкновение представлений о доминанте вертикали или горизонтали. На известной фреске Рафаэля «Афинская школа» в Станца делла Сеньятура Ватиканского дворца ее центральные фигуры Платон и Аристотель, как принято считать, указывают вверх на небо (Бога) и вниз (землю), однако более точно первый — сжатой рукой с указательным пальцем — обозначает вертикальное устремление вверх, а второй – разжатыми пальцами правой руки горизонталь земли. Этот контраст дополнительно поддерживается книгами: трактат «Тимей» Платон держит вертикально, а Аристотель «Никомахову этику» — горизонтально. Спор «голосов» Аристотеля и Платона – в авторской композиции фрески – разрешается тем, что вертикаль и горизонталь являются (что сокрыто для самих изображаемых фигур «афинской школы», в нашей терминологии – «героев» художественного целого) необходимыми частями Креста.
Эта аналогия может прояснить и (гипотетическое) соотношение иерархии героев и полифонии их голосов в художественном мире Достоевского. Не стоит забывать, создатель теории полифонического романа выполнил – как в первом издании своей книги, так и во втором, только лишь часть задачи, что сам он трезво осознавал. Он выстроил «горизонталь», так очаровавшую научный мир в конце 60-х годов 20 века (и позже), но затем вновь подвергшуюся ожесточенной критике. «Вертикаль же», связанную с «существованием Божиим» (Бочаров 1993: 72), ему создать не дали; точнее, Бахтину в своей книге, по его же позднейшему признанию, «приходилось за руку себя держать <…> даже Церковь оговаривал» (там же). Необходимо помнить об этой горестной констатации – и, по необходимости, «достраивая» в своих научных построениях тот Крест, который адекватно авторской интенции передает космос Достоевского, не отвергать горизонтальную «полифонию» Бахтина, но дополнить ее (точнее, уравновесить, как это смог показать на своей фреске Рафаэль) такими христоцентричными категориями, которые были бы способны продолжить эвристическую конструкцию русского ученого – умиление, соборность, пасхальность.
Пока в достоеведении преобладает тенденция, согласно которой «иерархия в пользу авторитарного Слова Евангелия» и концепция полифонического романа очевидным образом противоречат друг другу (Джоунс 1998: 194-196). Однако существует такой контекст понимания, где эта линейная логика [119] отменяется. «Диалог согласия» (несколько вольно используя бахтинское выражение) иерархии и полифонии состоит не в признании их релятивной относительной истинности для адекватного научного описания художественного мира Достоевского, а в том, что иерархия (за которой слишком легко можно усмотреть «авторитарность») может слишком легко стать овнешняющим «законничеством», если для ее утверждения другое сознание, сознание героя, только лишь внешнее вместилище той или иной «идеи». Представляется, что только признание соборной основы бахтинской полифонии (когда в неуничтожимом и незаместимом «ты еси» героев Достоевского всегда мерцает Другой — милующий и любящий грешников — Лик: «авторитарной» милующая любовь быть никоим образом не может) способно по-настоящему «примирить» те различные принципы истолкования, которые при иных подходах неизбежно приводят к тому или иному овнешнению героев, утрате их особой персонификации, на которой настаивал Бахтин, а значит и редукции смыслов произведений Достоевского.
Ведь и при безусловной христоцентричности иконостаса лики икон — разные, иконостас многоцветен, святые многоразлично выражают грани Божественного промысла, который никоим образом не может вместиться в единичное человеческое сознание; глубоко различны — в полифонии своих голосов — и герои Достоевского. Разумеется, полифония не может быть вполне синонимична соборности: ведь, в отличие от собора святых, в мире Достоевского — полифония голосов грешников. Но весьма часто в научной литературе о Достоевском эта полифония понимается как своего рода столкновение в его художественном мире различных философских или идеологических установок героев-«идеологов». Тогда как мерцание православной соборности в полифонии Достоевского выражается не в «равной» значимости позиций — для романного целого — идеологических установок, положим, Смердякова и старца Зосимы (понятно, что такая постановка вопроса нелепа), но в том, что в обоих случаях само изображаемое автором человеческое лицо, то есть герой произведения (за которым Лик Божий, хотя и зачастую поврежденный грехом) иерархически значимей той идеологической (иными словами, неизбежно овнешняющей это лицо) позиции, которую, как полагают иные интерпретаторы, это лицо вполне выражает. Так понятый герой, к которому читатель испытывает личностную симпатию, а не овнешняющая его идеологическая «позиция», может быть предметом именно филологии, но не философии.
Та или иная «идеологическая» установка может быть преодолена (и в мире Достоевского присутствует это преодоление) не противостоящими ей иными монологическими рассуждениями, замещаясь тем самым другой «идеологией», а поступком — на пути «отсечения» безличных начал (будь они рационалистически-«идейны», представляя ту или иную «философию», либо страстно-животны) и видения отсвета Христа в другом лице. Если овнешняющая личность идея — та или иная — и есть порабощение грехом (именно в этом смысле Христос — как Абсолютная Личность — отделяется Достоевским от безличной «истины», которая всегда — в таком статусе — более или менее [120] законническая ложь), то соборное «общение неслиянных душ» в романном мире возможно не как «полифоническое» соотнесение их релятивных «идеологий», но как персонифицированный диалог незаместимых лиц. Поэтому соборная полифония — это не сражение «идеологов» (в сущности, столкновение философских идей, то есть концепций, различных «правд», «истин»), но встреча людей (хотя и в поэтической реальности). Поскольку же лицо не является исключительным достоянием того или иного малого времени, его собственной «современности», то такого рода встреча, будучи со-бытийно со-пережита читателем, продолжает свое бытие (со-бытие) и, говоря по-бахтински, в незавершимых просторах большого времени, где только и возможно во всей полноте то самое «общение неслиянных душ» (Бахтин 1972: 45). Ровно так же и в целом личностный «диалог», представленный в книге Бахтина (невозможный без неловких жестов героев, той или иной интонации говорящего и спонтанной реакции слушающего и т.д.), отличается от деперсонифицированной, механистической «интертекстуальности», неизбежно — в своем пределе — завершающейся дивидизацией читателя. [121]
—
* Известен лишь один – крайне уничижительный по отношению к Достоевскому — отклик в печати, автор которого Н.В. Успенский (подписавшийся В. Печкиным) издевательски пожелал автору «скорейшего выздоровления» (Туниманов 1995: 589). Может быть, уместно напомнить, что сам Николай Васильевич через двенадцать лет после этого покончил с собой, зарезавшись в одном из московских переулков.
** См. одну из последних работ такого рода (Клюкина 2021).
*** Ср. название одной из характерных современных работ: «Краткая полная история человечества: («Сон смешного человека» Ф. М. Достоевского)» (Касаткина 1993: 48). Впрочем, еще М.М. Бахтин отмечал, что «по своей тематике “Сон смешного человека” — почти полная энциклопедия ведущих тем Достоевского…» (Бахтин 1972: 256). Краткое изложение наиболее значимых исследований, посвященных рассматриваемому рассказу, а также подробную библиографию, см.: (Арсентьева; Борисова 2008).
**** Тексты Достоевского цитируются по Полному собранию сочинений в тридцати томах (Достоевский 1972-1990). Том и страница указываются в скобках.
***** В данном случае нуждаются в кардинальной корректировке не только преобладающие в добахтинском достоеведении представления о Достоевском как идеологическом авторе, но и один из важнейших бахтинских постулатов. Обращаясь к «Сну смешного человека», исследователь формулирует так: «Перед нами здесь подлинный художник идеи» (выделено автором. – И.Е.) (Бахтин 1972: 254).
****** В «Записках из подполья» герой-парадоксалист, увлеченный «деконструкцией» современных ему «систем» и релятивизацией навязываемых обществом «законов», так или иначе покушающихся на суверенность его «Я» (это «я» десять раз звучит в девяти первых предложениях), также теряет и ту единственную «Ты», которая поняла, что он – несчастен, оказалось способной пожалеть и полюбить его. Однако именно эта потеря побуждает его к намерению не писать «из подполья», то есть выйти за пределы собственного эгоистического «я».
Литература
Арсентьева, Н.Н. Борисова В.В. 2008. Сон смешного человека. В: Щенников Г.К., Тихомиров Б.Н. (ред.). Достоевский: Сочинения, письма, документы: Словарь-справочник. Санкт-Петербург: Пушкинский Дом. С. 174-179.
Бахтин, М. М. 1972. Проблемы поэтики Достоевского. Москва: «Художественная литература».
Бахтин, М. М. 1979. Эстетика словесного творчества. Москва: «Искусство
Бочаров, С.Г. 1993. Об одном разговоре и вокруг него. «Новое литературное обозрение». № 2. С. 70-89.
Ванчугов, В.В. 1994. Очерк истории философии «самобытно-русской». Москва: «Пилигрим».
Джоунс, М. 1998. Достоевский после Бахтина: Исследование фантастического реализма Достоевского. Санкт-Петербург: «Академический проект».
Достоевский, Ф.М. 1972-1990. Полное собрание сочинений в тридцати томах. Ленинград: «Наука».
Есаулов, И.А. 2018. Художественный мир Достоевского в свете оппозиции «юродство/шутовство» и позиция Бахтина (на материале фантастического рассказа «Кроткая»). «Достоевский и мировая культура». Альманах. № 36. Санкт-Петербург. С. 75-86.
Карсавин, Л.П. 1990. Федор Павлович Карамазов как идеолог любви. В: О Достоевском: Творчество Достоевского в русской мысли 1881-1931 годов. Москва: Книга. С. 264-278.
Касаткина, Т.А. 1993. Краткая полная история человечества: («Сон смешного человека» Ф. М. Достоевского). «Достоевский и мировая культура». Санкт-Петербург. № 1. Ч. 1. С. 48 – 69.
Клюкина, Л.А. 2021. Религиозно-философские идеи в рассказе Ф.М. Достоевского «Сон смешного человека». Studia Humanitatis Borealis. № 1. С. 36–42.
Комарович, В.Л. 1997. «Мировая гармония» Достоевского. В: Властитель дум. Ф.М. Достоевский в русской критике конца XIX – начала ХХ века. Москва: Художественная литература.
Комарович, В. 1924. Роман Достоевского «Подросток» как художественное единство. В: А. С. Долинин (ред). Достоевский Ф. М. Статьи и материалы. Ленинград: Мысль. С. 31-68.
Луначарский, А. 1929. О «многоголосности» Достоевского: По поводу книги M. M. Бахтина «Проблемы творчества Достоевского». «Новый мир». № 10. С. 159-209.
Туниманов, В.А. 1995. Примечания. В: Достоевский Ф.М. Собрание сочинений в пятнадцати томах. Т. 14. Санкт-Петербург, Наука. С. 579-590.
Užarević, J. 1999. Обратная перспектива. В: «Russian Literature» XLV-I. С. 115-129. [122]
Опубликовано: OD JEZIKA DO TEKSTA. Zbornik u čast 70. rođendana Josipa Užarevića. Uredile Danijela Lugarić Vukas i Jasmina Vojvodić. Zagreb: Disput, 2023. P. 111-122.



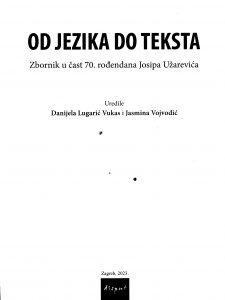
Добавить комментарий